Исторический очерк Трефолева Леонида Николаевича
I
Общая характеристика Ярославля в Елизаветинское время.— Население Ярославля.— Гигиенические условия.— Судебная медицина.— Проституция.— Пожары.— История «спадения» палат герцога Бирона.— Разбойники.— Начальник сыскной команды капитан Яух.— Буйства солдат в Ярославле.— Митрополит Арсений Мацеевич.— Приказное сословие.— Наезды ревизоров.— Похождения поручика Чирикова.— Рекрутчина.— Кабальные записи.— Путешествия купцов для покупки крепостных людей.— «Белорыбица» и другие повинности, лежащие на ярославцах.— Ловля бородачей.— Суеверия.— Предание об ярославце — Митрофанушке Простакове.— Жалкое состояние образования.— Майков и князь Щербатов.
Настоящий очерк, как видно из его названия, касается истории города Ярославля в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Местные исследователи ярославской старины до сих пор мало занимались этой эпохой; они проходили ее молчанием или же, довольствуясь общими Фразами, уверяли своих читателей, что город Ярославль наслаждался при Елизавете полнейшим спокойствием, Жил благополучно и мирно. Конечно, такой розовый, оптимистический взгляд на историю одного из древнейших городов России может быть, до некоторой степени, оправдан, если под словами: «тишина», «благополучие» и т. д. мы будем разуметь совершенную отчужденность общества от важных государственных вопросов, если мы решимся сравнить деятельность Ярославля в начале второй половины XVIII века с деятельностью того же города, например, в смутное время, когда все Верхнее Поволжье кипело напряженной исторической жизнью, когда оно вело борьбу с поляками, разорившими, кроме Ярославля, окрестные города: Ростов, Углич, Романов, Любим и проч. Несомненно, что сравнение двух означенных периодов ярославской истории приведет к заключению, что между ними существовала огромная разница с преимуществом «тишины» Елизаветинского времени. Самозванщина и междуцарствие ознаменовали себя на здешней почве событиями, полными глубокого драматизма. В Ярославле кипели котлы, и туда бросали живьем воевод-чужеземцев; Спасский монастырь — древняя ярославская святыня, подарившая нам «Слово о полку Игореве»,— оглашался не пением иноков, а выстрелами польских пушек; в Ярославле жила знаменитая пленница Марина Мнишек, развенчанная авантюристка, которой, однакож, нельзя отказать в удивительной, не женской силе характера; наконец, Ярославль служил сборным местом дружин, целовавших крест «За Московское государство стояти и выбрати государя всею землею российския державы». Но при императрице Елизавете историческая декорация Ярославля, прежде чрезвычайно блестящая, обращается в жалкие лохмотья и совершенно бледнеет. При Елизавете, как увидим далее, уже не народ расправляется с ненавистными воеводами, а напротив, воеводы смотрят на вверенных попечению их жителей, как на свою добычу, из которой можно было, почти всегда безнаказанно, выжимать пот и кровь. В Спасском монастыре гремят уже не пушки врагов: гремят бесполезные, иногда смешные проклятия митрополита Арсения Мацеевича, щедро расточаемые против раскольников и «бородачей». Живет в Ярославле не энергическая женщина, бывшая русская царица, а лишенный престола жалкий, трусливый старик, некогда курляндский герцог. Буйствуют в Ярославле не ляхи, а свои русские солдаты… Вот, в коротких словак, положение Ярославля при дочери Петра Великого.
Туземные писатели видят в этом положении светлую картину. Между тем, внимательное и, смеем сказать, добросовестное изучение документов, извлеченных из архивной пыли и в первый раз являющихся на страницах «Древней и новой России», проводит нас к противоположному мнению. Оказывается, что Елизаветинский век далеко не был золотым веком, по крайней мере, относительно исторической судьбы города Ярославля. Оптимистический взгляд в данном случае не выдерживает ни малейшей критики. Правда, ярославцы, как и все русские люди, истомленные бироновщиной, с падением ее виновника, сосланного в их родной город, вздохнули при Елизавете легче, свободнее; но этот вздох вышел не из полной, крепкой груди окончательно выздоровевшего организма: это был вздох запуганных, замученных людей, которым и после господства Бирона часто приходилось вздыхать от новых бед, опасаясь за свое жалкое существование. Ярославль, когда-то полный самобытной исторической жизни, спускается при Елизавете на степень весьма заурядного провинциального города, засыпает глубоким, мертвым сном. Эта оцепенелость общества не лишена своего рода драматизма; но принимать за какое-то благоденствие нравственную спячку — слишком странно!
Не вдаваясь в подробную оценку Елизаветинского царствования, ограничимся здесь только группировкою сведений, которые касаются исключительно Ярославля в пятидесятых годах минувшего столетия. Необходимо, однако, заметить, что сообщаемые в нашей статье факты имеют значение, выходящее за узкие пределы истории одного города. Происходившие в нем события не отличаются исключительно местным характером; напротив, на них следует смотреть, как на явления, вызванные всем строем тогдашней общественной и государственной жизни. Что творилось в Ярославле, то, без сомнения, происходило и в других великорусских городах. Разница не могла быть значительною, потому что социальные условия были везде одни и те же. Как в Ярославле управление находилось в руках корыстолюбивых воевод, так равно и другие города несли тяжелое бремя этих администраторов-судей, посаженных на кормление; как в Ярославле вольничала солдатчина, так, разумеется, поступала она в Костроме, Владимире, Твери, Вологде и т. д.; ярославец слепо верил в нечистую силу, — жители соседних провинциальных городов были заражены не в меньшей степени дикими предрассудками. Короче сказать, предлагаемые исторические материалы имеют в наших глазах двоякое значение: на них должно смотреть, во-первых, как на источник для истории города Ярославля и, во-вторых, как на пособие для изучения Елизаветинского времени вообще.
Сто двадцать лет назад Ярославль был далеко не похож на тот благоустроенный город, каким он является в настоящее время. Это был город, носивший на себе множество отпечатков старой, допетровской Руси. Улицы, неправильно расположенные и, по большей части, узкие, утопали весной и осенью в грязи. По сторонам города тянулся земляной вал; на нем стояли 14 башен — жалкие остатки укреплений, построенных при царе Алексее Михайловиче. «Вал и рвы в некоторых местах осыпались; из башен некоторые повредились, а другие, за ветхостью, разобраны», — так читаем в одной, редкой теперь, книге {«Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи». СПБ. 1771.}, сообщающей любопытные подробности об Ярославле в последние годы Елизаветинского царствования. Оказывается, что тогда во всем городе было только 43 каменных дома; «а казенных каменных строений, кроме помянутых башен и ворот, нет… Из купечества некоторые имеют следственное богатство, а большая часть претерпевает скудость; в лучшем состоянии те, которые имеют кожевенные заводы, где делаются юфти и отпускаются за море». Кроме кожевенных заводов, славились здесь заводы суриковые и белильные, а также полотняные и шелковые фабрики. По второй ревизии в Ярославле считалось «купечества» 5 819 человек «с прибылыми», да фабричных и других разночинцев 2 569 душ мужского пола. Следует иметь в виду, что под купечеством разумелись вообще горожане, не исключая мелких торговцев и промышленников.
Как жил этот народ? какие радости и невзгоды испытывал он? — вот вопросы, подлежащие нашему рассмотрению, на основании журналов Ярославского магистрата {В распоряжении составителя настоящего очерка были, к сожалению, далеко не все громадные фолианты магистратских «журналов» Елизаветинского времени. Благодаря содействию ярославского статистического комитета, нам удалось получить из местных архивов «журналы» только за последние годы Елизаветинского царствования, именно: за 1754, 1755, 1756, 1757, 1759 (первая половина года) и 1760. Где находятся остальные «журналы», погибли они или находятся под присмотром аргусов-архивариусов, нам неизвестно. Нельзя, однако, не пожалеть, что история русских провинций значительно страдает от крайней замкнутости местных архивов.— Л. Т.}.
Жили ярославцы, как уже замечено, вообще, грязновато. О гигиенических условиях никто не заботился. Близ Фроловского моста, например, красовалось обширное болото, называвшееся тоже Фроловским, где пьяные гуляки тонули — не в переносном, а в буквальном смысле этого слова; туда же нередко попадали мертвые тела — жертвы тайных преступлений. Из наших бумаг узнаем наивно рассказанные факты о страшных находках в означенном болоте: «оказались человеческие обглоданные ноги, а мужеска или женска полу, того признать никак невозможно». (Журн. 1756, No 361). По городу в летнее время бродил домашний скот; немощеные улицы и площади, покрытые травой, давали коровам и лошадям отличный подножный корм. Для преследования скота полицейское начальство установило специальную должность, и ее занял капрал Василий Шишкин — грозный бич четвероногих врагов, особенно свиней и собак, которые, не довольствуясь телами, брошенными в ярославское «Мертвое море», т. е. в Фроловское болото, разрывали могилы. Заботясь о неприкосновенности мертвецов, члены магистрата решили, кстати, что не худо подумать и о живых людях. «От свиней народу, а паче малым детям опасность великая есть!»— восклицал с негодованием магистрат и подтвердил упомянутому капралу ловить бродячий скот, хозяев же сего скота вразумил, что они, «за сии продерзости и государственным правам противности, будут телесно истязаны в магистрате». (Журн. 1759, No 240). Но, несмотря на эту меру, грязные животные все-таки «чинили продерзости и противности», ибо им отлично жилось «во рвах и грязях», которыми изобиловал богоспасаемый град Ярославль. (Журн. 1756, No 249).
Расположенные внутри города заводы наполняли воздух миазмами. Добрые наши предки все терпели. Только в редких случаях, когда им грозила явная опасность задохнуться от страшного зловония, они хватались за ум. Например, в сентябре 1760 года магистратские сотские донесли, что от одного из заводов, где производилось «варение скотской крови», может произойти беда: «Всегда безмерный смрад происходит, и воздух так (им) заражен, что близ оного дома живущим людям не токмо на двор и на улицу выходить, но и жить поблизости весьма трудно; отчего состоит крайняя опасность, чтобы от оного смрада через испортившийся воздух не последовало (чего боже сохрани!) не только скоту, но и людям вредного припадка». С целью избежать сего «припадка», т. е. заразы, магистрат распорядился уничтожить «варение скотской крови» и обязал сотских: «ежели в которой-либо сотне смрадный воздух произойдет, о том магистрату доносить в самой скорости». (Журн. 1760, No 628). Нужно ли говорить, что ярославцы не считали за грех продавать кожу зачумленного скота (журн. 1755, No 106); а в 1756 году, когда в Ярославле свирепствовала страшная эпизоотия, купцы благодушно продавали мясо чумных коров. Чтобы прекратить эту страшную торговлю, местная полиция обрекла ярославцев впредь до окончания падежа на сухоядие, на великий пост; мясные лавки были во всем городе запечатаны. (Журн. 1756, No 244).
Хотя в круг деятельности магистрата (как увидим далее, очень обширной) входило, между прочим, и попечение о народном здравии, но магистрат должен был, по необходимости, ограничиваться паллиативными мерами; не располагая медицинским пособием, он уповал только на авось, на счастливую судьбу. И действительно, одна судьба хранила ярославцев от повальных болезней. При императрице Елизавете Петровне у нас медицина, вообще, не процветала; в Ярославле же она была совершенно забыта. Правда, здесь жил один эскулап, городской лекарь Гове; но, занимая в то же время должность домашнего врача при ссыльном курляндском герцоге Бироне, он был озабочен недугами его светлости гораздо сильнее, чем здоровьем обыкновенных смертных — ярославских горожан, которые платили ему изрядное, для того времени, жалование: 144 руб. в год. (Журн. 1755 г., No 759). Волей-неволей, чтобы облегчить свои телесные страдания, ярославцы прибегали к знахарям и… коновалам! Патриархальные нравы наших предков допускали вторжение в область медицины людей, умевших отворить кровь не только больной лошади, но и ее хозяину, если его постигал злой недуг. Сколько народу погибло от знахарей и коновалов, это составляет тайну могил, которые находились при каждой приходской церкви в Ярославле, а такое крайнее изобилие кладбищ, разумеется, вредно влияло на здоровье его жителей.
До какой степени страдало ярославское население, вледствие неимения медицинской помощи, можно судить лучше всего по следующему факту: сумасшедшие, или, как их тогда называли, «сумасбродные» люди испытывали жестокую участь колодников. Об излечении, о человеколюбивом уходе за ними никто не заботился. Если родственники усматривали, что голова одного из членов их семейства не в порядке, или же магистратские сотские непосредственно убеждались в «сумасбродстве» кого-либо из ярославских посадских, то в обоих случаях несчастных помешанных ожидал один конец: заключение в тюрьму. Магистрат определял: «такого-то сумасбродна, приняв, посадить под караул, а чтобы он как сам себе, так и прочим не учинил какого дурна (вреда), а паче чем не уязвил, до того его не допускать и в том за ним крепко смотреть караульным сторожам» и проч. (Журн. 1760, No 410). Итак, караульные сторожа — вот кто были единственными исцелителями душевных болезней!
Судебная медицина также была в загоне. Единственный (не по качеству, а по количеству) лекарь Гове свидетельствовал, да и то далеко не всегда, тела скоропостижно или насильственно умерших мужчин; мертвых же баб и девок осматривали… женщины! Делалось это в видах скромности и целомудрия. Выигрывала ли от таких похвальных причин юстиция, судить не будем. В подобных случаях, очень частых, решение магистрата формулировалось обыкновенно так: «Записав (донесение о мертвом теле), отдать в повытье (в канцелярию), а объявленное мертвое тело — не имеется ли на оном каких битых знаков — через женщин осмотря, описать и, по осмотру оное, для предания земле, отдать божевику, с распискою». (Журн. 1755 г., No 951). Трупы лежали непогребенными до 3-х суток, на тот случай, не обрящутся ли родственники умершего или умершей; по прошествии этого времени божевик совершал похороны, «дабы от долговременного лежания не последовало противной духоты и от того, паче чаяния, в воздухе повреждения». (Журн. 1756 г., No 296). Божевик был должностное лицо, назначавшееся магистратом для погребения при убогом доме тех, которые погибли насильственною смертью, или, в так называемое «одночасье». Впрочем, в наших документах встречаются известия, что если дети отказались от погребения своих родителей, «за нищетой», то и в таком случае похоронные расходы производил тоже божевик на счет магистратских сумм. (Журн. 1760 г., No 183).
Замечательно, однако, что,, несмотря на жалкое состояние медицинско-полицейского надзора в Ярославле, жители его не страдали от так называемых секретных болезней. Страшный подарок, сделанный Европе спутниками Колумба, не достиг еще в половине XVIII века ярославской территории. По крайней мере, документы, которыми мы пользуемся и которые рисуют быт тогдашнего ярославского общества, всесторонним образом умалчивают об этой язве, к сожалению, теперь слишком хорошо известной ярославцам. Более прочные, нежели в настоящее время, основы семейной жизни, большая домовитость, построенная, впрочем, по диким образцам «домостроя», несомненно ограждали народное здравие в указанном отношении, хотя и не устраняли совершенно проституцию. Известно, что религиозная императрица Елизавета старательно уничтожала в своем государстве проституцию, не допуская домов терпимости, но, вопреки требованиям правительства, большие торговые и промышленные города, в том числе и Ярославль, имели у себя тайные убежища разврата, на которых городские власти, начиная с воевод и кончая мелкою приказною челядью, смотрели весьма благодушно, как на доходную статью. Проституция скрывалась в отдаленных ярославских улицах. Там, по выражению магистратских летописцев, «пребывали в пьянстве и роскошах» молодые купчики (челобитие купца Потапова в журнале 7 июня 1754 г., No 582), туда уносили они из дому свое имение и пропивали его вместе с какою-нибудь туземною Манон-Леско или Марион-де-Лорм. Магистрат описывал остатки имущества, которое еще не успело перейти в руки прелестниц (журн. 1754 г., No 910); но бывали случаи, когда тот же магистрат принимал гораздо более строгие меры против любителей широкого разгула: ломал дома их и переносил таковые на другие улицы (журн. 1755 г., No 841), или же вознаграждал оскорбленную общественную нравственность, наказывая оскорбителей ее плетьми. Сообщаем один любопытный случай. В 1756 г. некто Иван Четвертухин, посадский человек, женатый, но, можно полагать, нисколько не ревнивый, открыл в Ярославле неприличную торговлю: стал продавать красоту своей жены. Кроме Четвертухиной, сноха ее и другие женщины тоже дарили гостей своими, далеко не безгрешными, ласками. Решение последовало суровое: магистрат присудил наказать плетьми всех означенных сирен, «дабы впредь оне от такового непотребного и невоздержного жития, а на них глядя и другие, унимались». И сам Четвертухин, главный виновник зла, и мать его старуха не избежали плетей, последняя «за неунятие своего сына от непорядочных поступков»; даже все гости, захваченные врасплох магистратскими сотскими, были «истязаны через плети». (Журн. 1756 г., No 40).
Восстановляя нравственность обычным в то время средством, т. е. плетьми, магистрат руководился, кроме законов целомудрия, еще и другим основанием, именно, чтобы гуляки «не причинили смертного убивства или пожарного случая». Такие случаи были в Ярославле очень часты. Теснота деревянных строений способствовала губительному действию огня. В городе находились овины, крытые скалой (журн. 1760 г., No 272); удивительно ли после того, что набат почти каждый день гремел на колокольнях, призывая ярославцев на пожары. Неосторожное обращение с огнем влекло за собой плети. Так, в 1759 году был жестоко «истязай», по распоряжению сыскного приказа, посадский Василий Дудов, учинивший пожар (журн. 1759 г., No 128); но заплечные мастера, бичевавшие ярославцев за сказанные поступки, не устраняли беды, и огонь делал свое дело {В 1768 г. сгорел почти весь Ярославль; при этом погибли местные архивы, но, к счастию, далеко не все: многие документы отысканы в губернском правлении Е. И. Якушкиным и В. И. Лествициным; последний напечатал некоторые из них в «Ярославских губернских ведомостях».— Л. Т.}; огнегасительные же снаряды, которыми располагал магистрат, ведавший всем городским хозяйством, были слишком ничтожны.
Пожарного бедствия не миновал и герцог Бирон. «Спаление» его палат наделало много хлопот и неприятностей ярославскому торговому люду, который, как сейчас увидим, должен был поплатиться своим карманом, чтобы исполнить прихоть бывшего временщика. Означенный пожар случился, «по воле божеской», 11-го мая 1760 года, следовательно, уже к концу пребывания Бирона в Ярославле. На другой же день после пожара Бирон известил об этом событии канцлера М. Л. Воронцова, жалуясь, что «сие злоключение» разорило их, Биронов: «сгорело все, что нам в нынешнем несчастливом состоянии некоторою спокойностью служить имело». Сын Бирона, принц Петр, в письме к Воронцову от 12-го же мая, сообщал следующее: «Вчера в три часа пополудни, когда, к довершению несчастия, ни меня, ни большинства прислуги не было дома, и при герцоге и при герцогине оставались только два лица, недалеко от нас случился пожар, печальные последствия которого мы все перечувствовали. Весь наш квартал был охвачен пламенем, и то, немногое, что спасли, было перебито и украдено. К тому же моя дорогая мать находится при смерти в доме воеводы; последним мы не можем достаточно нахвалиться. Его жена едва вытащила из пламени герцогиню, лишившуюся чувства. Вот, милостивый государь, то грустное положение, в котором теперь находимся и о котором имею честь уведомить вас с тем большим доверием, что признаю в вас слишком благородную душу для того, чтобы не принять участие в новом, постигнувшем нас бедствии и не довести сего до сведения ее императорского величества, повергнув нас к ее стопам». Далее, Петр Бирон жаловался, подобно отцу своему, на ярославскую полицию: «Если бы был лучший начальник полиции, то этого несчастия не случилось бы. Настоящий же полициймейстер, грузин, бездельник какой-то» {Письмо это также напечатано в означенном выше почтенном издании по-французски, но без перевода. Граф Воронцов доложил немедленно о корреспонденции Бирона императрице. Пожаловала ли она им «на погорелое место», неизвестно. Впрочем, они домогались не столько о денежном пособии, сколько о том, чтобы, благодаря «спадению», разжалобить императрицу Елизавету и получить свободу.}.
Полициймейстер, кажется, вовсе и не присутствовал на пожаре; по крайней мере, в наших бумагах не упоминается о том, что он был там. Магистратские же члены явились «со множеством народа и с немалым числом заливных труб»; прискакал и воевода Большой-Шубин; прибыл также «обретающийся при оном бывшем герцоге Бироне на карауле лейб-гвардии капитан-поручик Булгаков с командою; токмо ни коими мерами того двора от сгорения отнять не могли. Того ради (в магистрате) рассуждено: об оном записать журналом, и об отводе помянутому Бирону, вместо погорелого дому, для квартирования с его фамилией, вновь другого лучшего из купеческих домов иметь в общем присутствии особливое рассуждение». Отсюда можно заключить, не впадая в ошибку, что ярославский магистрат торопился ублажить Бирона, который, несмотря на свое падение, все еще имел значительные связи при Елизаветинском дворе; да и сама императрица не чувствовала личной вражды к бывшему регенту, и он, по милости государыни, пользовался в Ярославле отличным содержанием — до 5 000 руб. в год {Извлечение из полусгоревшего дела ярославской провинциальной канцелярии, которое заслуживает внимания по некоторым, заключающимся в нем, относительно Бирона, фактам. Где теперь это дело, не знаем.— Л. Т.}, Магистрату, конечно, была известна высочайшая воля — давать Бирону «достойную квартиру»; наконец, магистрат знал и то, что Бирон ведет дружбу и ест хлеб-соль с господином воеводою, а власть этой чиновной персоны крепко тяготела над горожанами, и пренебрегать ею было опасно. Вследствие таковых обстоятельств, не откладывая дела, магистрат тотчас же назначил для Бирона квартиру в одном из лучших домов, принадлежавшем купцу Викулину. Так как этот дом был запечатан, впредь до разрешения процесса между Викулиным и другими лицами, предъявившими на него иск, то магистрат решил: «снять печати и идти к тому дому всем присутствующим и нескольким (человекам) из первостатейного купечества». Составилась торжественная процессия из 22-х особ; за особами следовала мелкота — магистратские сотские и десятские. Но купец Викулин, судя по нашим бумагам, нисколько не дорожил честью иметь в своем доме знатного постояльца, бывшего фаворита императрицы Анны Иоанновны, и когда городские власти послали за Викулиным, чтобы он присутствовал при снятии с дома печатей, тот заупрямился, не пошел. Магистрат употребил насилие. «По многим, его (Викулина) противным упрямствам», сотские и десятские, схватив Викулина, приволокли его к назначенной для Бирона квартире, однако и тут «оказано было им супротивление всяческое» в глазах герцогского пристава, капитан-поручика Булгакова и других именитых персон. «Не хочу снять печати», — твердил Викулин. Его смирили, успокоили. Есть основание предполагать, что усмирение последовало… кулаками и ружейными прикладами. Бедный Викулин должен был, в свое оправдание, найти какой-нибудь предлог, и нашел, заявивши всему «великому собранию», что под домом находится склад дегтя, который, в случае пожара, угрожал окончательным «спадением Бирона со всей его фамилией». Насколько пострадала бы Россия, если б грозная Немезида покарала курляндца за его прежние грехи перед русским народом, не знаем; однако же ярославский магистрат не дерзнул подвергнуть герцога страшному аутод-а-фе, или, как тогда говорили «спадению». Признано было за благо вывезти из дома Викулина означенный горючий материал, «дабы не последовало от дегтя такового страха».
Бирон пересилился на новую квартиру и остался ею недоволен; через своего пристава Булгакова он настойчиво требовал, чтобы ярославский магистрат построил для него, герцога, жилище на том самом месте, где находились, до пожара, его палаты {Бирон жил до пожара в доме купца Мякушкина, близ Волги. (Журн. ярославского магистрата, 1760 г., No 408).}. Старый, изнеженный немец, вероятно, привык к месту своего заточения, хотя никакого заточения, в буквальном смысле этого слова, он не испытывал, пользуясь правом кататься по Ярославлю на великолепных лошадях, сколько душе его было угодно. Требование Бирона смутило магистрат. Расходы на постройку предстояли весьма значительные, а городская казна страдала безденежьем, вследствие множества повинностей, обременявших торговое сословие. Видя, что Бирон упорствует в своем желании, магистрат обратился к сенату с мольбой: «избавить ярославцев от постройки для бывшего герцога Бирона, с фамилией, нового дома из городского кошту». В донесении своем магистрат представлял сенату, что герцогский пристав, капитан-поручик Булгаков, несправедливо указывает, «будто бы оному Бирону, с фамилией, в хоромах купца Викулина и тесно и неудобно». По словам магистрата, это была сущая напраслина,— с чем легко согласиться, прочитав в цитируемых документах описание бироновского жилища, хотя, разумеется, оно не походило на роскошный дворец, где некогда обитал всемогущий временщик, — и, может быть, тень императрицы Анны негодовала на ярославцев, которые считали, что для ссыльного политического преступника вполне достаточен и хорош лучший дом в целом городе Ярославле. «Дом сей (писал магистрат) пространный: каменных теплых и с уборами не малых палат пять, да на верху в светлице для служителей особые избы, да палата; три погреба; для карет и колясок три сарая; конюшня с десятью стойлами; баня со светлицей» и проч. Из этого описания видно, что Бирон располагал также обширным садом. Прежняя квартира, по уверению магистрата, была теснее этой, однако «бывший герцог Бирон жил в ней без всякого утеснения и вдобавок других дворов не требовал». Последняя фраза объясняется тем, что для многочисленной прислуги Бирона, корме дома Викулина, магистрат отвел еще несколько соседних домов; но немец не удовольствовался и этой вынужденной любезностью магистрата, продолжая стоять на своем: стройте ему новый дом на погорелом месте по прежнему плану! С нетерпением ожидал магистрат сенатского решения: оно ужаснуло город. Сенат повелел исполнить волю капризного немца. Скрепя сердце, бургомистр и ратманы вызвали в город плотников-крестьян.
Кажется, Бирон способен был и в ссылке только на то, чтобы мучить и изнурять русский народ. Вследствие его прихоти, крестьянам предстояло соорудить для него дом без вознаграждения за труд, потому что у магистрата недоставало средств даже и на закупку строительных материалов. Естественно, что рабочие должны были проклинать затею недоброго немца, будучи принуждены трудиться даром, из-под палки магистратских сотских. К счастию, повторенное магистром слезное челобитье подействовало на господ сенаторов, и они решили: «обождать постройку до будущего указу, и послать в Ярославль из Москвы сенатской конторы архитектора, и велеть ему осмотр учинить, план и смету (составить) — во что оное строение стать может, и представить в сенат. Между тем упомянутому Бирону, с фамилиею, ныне жительство иметь в отведенном ему от ярославского магистрата доме бывшего президента Викулина и еще в других двух домах, которые, как ярославский магистрат представлял, для него, Бирона, с фамилиею, довольны быть могут». Вскоре после получения этого указа приехал в Ярославль архитектор, поручик Андрей Лопатин, немедленно распорядившийся, чтобы магистрат «показал ему обстоятельно, через достойного человека, на дворе, где жительство имел бывший герцог курляндский Бирон, с фамилиею, какое и где имелось деревянное — жилое и нежилое — строение, и в которых местах, и сколько порознь жилых и нежилых каменных покоев». Видно, что архитектор желал соорудить для его светлости здание по его вкусу и нисколько не отступая от прежнего плана. Кроме означенных сведений, поручик Лопатин потребовал присылки «кузнецов, столяров и торгующих диким и белым камнем и алебастром». Магистрат исполнил последнее требование техника, который намеревался построить для Бирона славные белокаменные палаты на счет бедных ярославцев; но, вместе с тем, архитектор был уведомлен, что городские власти не знают подробно о внутреннем расположении жилища Бирона. «Понеже (сообщил магистрат) на сгоревшем дворе, где бывший герцог Бирон, с фамилиею, жительство имел, о наружном строении из ярославского купечества знающие (люди) хотя и имеются; но какие и где, как в оном доме так и против оного, на собственной купца Федора Коровайникова земле, для них же — Бирона, с фамилиею — надобностей построены были покои и прочие надобности и в которых столярные и штукатурные и другие уборы имелись, о том не токмо-что из здешнего купечества, но и ярославского магистрата присутствующие показать точно не могут. А о том всем знать может состоящий при нем, Бироне, для содержания караула, лейб-гвардии капитан господин Булгаков, понеже как во время квартирования помянутого бывшего герцога Бирона оные домы состояли в смотрении его, так и по сгорении при оном доме у кладовых входов (в которых во время пожара сохранялся и ныне хранится оного бывшего герцога Бирона экипаж) состоит караул команды его же, Булгакова. Да и хоромное на оном жилом дворе не малое, по берегу реки Волги, строение, также и напротив одного дома, на земле купца Коровайникова, производится в ведомстве его же, капитана господина Булгакова».
Воспользовавшись услужливым архитектором, Бирон начал постройки на свои средства в полной уверенности, что произведенные им издержки будут взысканы с ярославских купцов, — и действительно, купечество уплатило, на первый раз, согласно сделанной магистратом раскладке, по 30 процентов с каждого податного рубля, собственно на устройство бироновских «апартаментов». Этот сбор доставил Бирону 2 000 рублей. Пристав его, Булгаков, сильно желал прибрать деньги к своим рукам и вмешивался в наблюдение за строительными работами; но, опасаясь увеличения расходов, если их будет производить «капитан-господин», магистрат воспротивился ему в этом отношении и поручил надзор купцу Красильникову. Отсюда между магистром и Булгаковым возникла ожесточенная переписка, прекратившаяся, кажется, не прежде получения Бироном свободы.
«Спадение» Бироновского жилища вызвало со стороны ярославской полициймейстерской конторы несколько крутых распоряжений: во-первых, полиция запечатала печи во всем городе. Поднялся страшный ропот. 14 июня 1760 г. явились на магистрат сотские и объявили, что «генерально во всех домах печи запечатаны». Любопытны жалобы бедняков, которым предстояло не топить свои лачуги в продолжение целого лета, или устроить временные печи на дворе, вдали от строений, на что у них не было средств. Магистрат разрешил топку печей, но не более двух раз в неделю, по понедельникам и субботам, и затем составил список тем домохозяевам, которые, по своей нищете, лишены были возможности устроить на лето отдельные печи. (Журн. 1760 г., No 437). Затем, во-вторых, полиция обязала домохозяев иметь дневную и ночную стражу, которая «примечала бы всяких чинов людей, а паче из подлых, сумнительных по образу нищих и ханжей, кои шататься будут по улицам поздно: не окажется ли при оных (от чего боже сохрани) к пожарному случаю каких-либо сумнительных орудиев». (Журн. 1760 г., No 340).
…Много бед терпели ярославцы от воров и разбойников; но едва ли не больше зла испытывали они от лиц, которые по закону обязаны были охранять общественное спокойствие. Проживавший в Ярославле капитан Яух (начальник сыскной команды, охранявший Волгу от разбойнических судов), постоянно разорял наших предков. Ярославский магистрат умолял московского губернатора, князя Сергея Алексеевича Голицына, перевести куда-нибудь в другой город означенную сыскную команду и ее командира, которому магистрат давал такой выразительный эпитет: «злобный и непорядочный разоритель». (Жури. 1755 г., No 107). Князь Голицын внял челобитию ярославцев и приказал капитану Яуху, «неотменно» оставив Ярославль, расположить свою команду в городе Романове и в посаде Мологе. «Но токмо оный сыщик Яух» (гласит магистратский летописец), «незнамо из какого домогательства и презирая вышеписанные его высококняжеского сиятельства князя Сергея Алексеевича Голицына повеления и поныне из Ярославля никуда не выступает и, расположась по квартирам, стоит усиленно… паче злобствуя на ярославский магистрат. И впредь ярославским обывателям опасно наивящего утеснения, и обид, и разорения, что уже от него, капитана Яуха, ныне на самом деле оказано». Желая отомстить магистрату за донос, Яух нашел, что самый чувствительный удар магистрату может быть нанесен в лице одного из лучших дельцов этого присутственного места, а таким «дельцом» был канцелярист Михайло Бухарин. 18 декабря 1754 года, т. е. «в высокоторжественный праздник рождения ее императорского величества, всемилостивейшей государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы всероссийской, когда он, Бухарин, быв, по зову, в гостях у родственников, ехал в дом свой с прочими бывшими с ним гостями, ярославскими купцами и приказными служителями, то, не доезжая до двора его, оного капитана Яуха, вооруженная команда, состоящая во многих людях…. минуя всех ехавших с ним (Бухариным), одного его, Бухарина, да ехавшего с ним на одних санях копииста Якова Аладьина, выхватя из саней, и обнажа шпаги, и примкнув к ружьям штыки, с великим поруганием, как злодеев, вели на двор его, капитана Яуха, и оттоле отведены же и посажены были в солдатской караульне, где и ночевали. А поутру того же декабря 19 дня, заковав его, Бухарина, и показанного Аладьина в железа, по приказу же его, капитана Яуха, отвезли в тюрьму; и посажены они вместе с обретающимися в команде его злодеями». Пять суток доблестный сыщик-офицер наслаждался своим мщением. Предлогом к аресту послужила выдуманная Яухом история, будто бы один из канцеляристов, именно Бухарин^ прибил «смертно» на улице, ночью, копииста Бархатова, «причем учинил давление за горло и грабеж»; относительно же Аладьина сыщик не мог придумать и посадил его на цепь так себе, ради компании. «И такую бесчеловечную суровость претерпевали они (Бухарин с Аладьиным), что как отец его, Бухарина, так и никто из домашних к ним допущаемы не были». Наконец, заключенники явились перед грозными очами капитана Яуха; он вскоре освободил Аладьина, а Бухарина опять бросил в тюрьму. Купцы терпели также «несносные и напрасные обиды», т. е. и на них были надеваемы железные браслеты. Магистрат протестовал, жаловался; но Яух не унимался и «кипел заобыклою злобой». (Журн. 1755 г., No 107). Вообще, этот военный человек был одним из самых грубых представителей кулачного права и наглой солдатчины, от которой злополучные ярославцы Елизаветинского времени жестоко страдали…
25 ноября 1741 года пало правительство, управлявшее Россией от имени младенца — императора Иоанна Антоновича. На престол вступила Елизавета. Переворот совершился быстро, в одну ночь: но события этой ночи надолго возвеличили солдат, способствовавших воцарению дочери Петра Великого. На Руси явилось множество новых дворян, бывших солдат. Почти весь Пошехонский уезд, составлявший и тогда часть Ярославской провинции, был разделен на участки, пожалованные импровизированным господам-помещикам… Близость Пошехонского уезда, где поселились многие из лейб-компанцев, обращавшихся с своими новыми «подданными» не очень-то благосклонно (о чем до сих пор сохранились предания), несомненно способствовала тому, что солдаты, квартировавшие в Ярославле, старались подражать пошехонским дворянам, бывшим своим товарищам. Если у ярославских солдат не имелось крепостных людей, зато у них были под руками ярославские купцы и посадские люди, над которыми и потешалась вечно пьяная и буйная солдатчина. К этим страшным потехам мы и обращаемся.
В Ярославле квартировала пехота и конница — вятский драгунский полк. Хотя и драгуны поступали с мирными гражданами «весьма озорнически, нанося смертельные побои» (журн. 1754 г., No 1150), но пехотинцы в этом отношении превзошли кавалеристов. Буйства совершались в одиночку и массами. Так, например, 5 марта. 1755 года, в 6-м часу вечера, ко двору купца Семена Алексеева Шальнова (на Пробойной улице) «с великим криком прибежали незнамо какие люди в солдатских мундирах, человек 40»; схватив бревно, они стали разбивать им ворота и обнажили палаши. Хозяин дома, купец Шальнов, и его домашние «ожидали себе смерти»; к счастию, кто-то догадался ударить на колокольне «всполох», прискакал полициймейстер и захватил главных зачинщиков буйной ватаги; но они вскоре были освобождены без малейшего наказания, по требованию их командира, подполковника суздальского полка фон-Гельвиха, распустившего своих солдат до такой степени, что магистрат занес в журнал следующее замечание: «ярославское купечество от страха и угрожаниев не токмо промыслов производить, но и из домов своих отлучаться не дерзает». (Журн. 1755 г., No 320). Того же 5 марта, жена купца, Анна Ивановна Юхотникова, ехала со снохой своей; «и как случилось им ехать к Семеновским воротам, то незнамо какие люди в солдатских и унтер-офицерских кафтанах, человек с пять, без всякого резону браня, оную Юхотникову зашибли, а також и стоящего на запятках ярославца Ивана Михайлова били палкой, от коих они едва уехать могли». (Там же, стр. 131). 29 апреля того же 1755 года, солдаты, напавши на дом Ивана Горяцкого (который был «управителей митрополита Арсения Мацеевича»), увезли «неведома куда» самого Горяцкого и его малолетнего1 племянника, скрывшихся в бане, куда солдаты ворвались, разломавши штыками дверь. (Журн. 1755 г., No 532). В том же апреле месяце «военные люди», придя в дом купчихи Шатновой, Сорвали с нее одежду, били кулаками, допытывались: где ее муж? Сын Шатновой, мальчик, пострадал не меньше матери от жестоких солдат. Вопли его и просьбы о помиловании услыхал сосед, купец Лбовский, и, прибежав на побоище, обратился к сержанту с вопросом: «Не напрасно ли без материнского ведома мучишь ребенка?» За что и Лбовский, настигнутый теми же солдатами, «был бит на Всесвятском монастыре кулаками». (Там же, челобитье Лбовекого, стр. 15). Магистрат жаловался на фон-Гельвиха и его озорников-солдат «его высокографскому сиятельству, графу Петру Ивановичу Шувалову, но сатисфакции не получил».
Для большего привлечения народа к кабакам ярославские целовальники устраивали разные увеселения, например, качели. Туда сходились бабы и солдаты, их возлюбленные, и тут же, после веселого смеха и удалой песни, раздавались стоны побиваемых женщин, ибо служители Марса не церемонились со своими дамами. Сотские часто рапортовали магистрату таким или подобным образом: «Солдат имевшуюся при кабаке на качели незнаемую женку ударил по роже, от которого удара оная женка пала замертво». Кабацкий сиделец вступается за «женку», лежавшую без чувств, и ловит ее обидчика, но последнего освобождают товарищи, и только одна шпага, брошенная солдатом, достается, как трофей, ярославскому магистрату, куда приносит ее храбрый целовальник. (Журн. 1756 г, No 270).
От буйства солдатчины не спасали ни пол, ни возраст, ни общественное положение: били детей и женщин, били членов магистрата. Так, между прочим, пострадал ратман Иван Максимович Кучумов, увековечивший свое имя основанием в Ярославле сиротского дома. Кучумов шел по улице, возвращаясь со службы, стало быть, дело происходило среди белого дня; однако солдаты, находившиеся в команде князя Ивана Мещерского, не задумались и днем учинить нападение на почтенного Кучумова, будучи подкуплены его недругом, посадским Семеном Пуговичниковым. (Журн. 1759 г., No 264). Ночью, 15 января 1760 г., явился к купцу Маряхину незнаемый военный человек со шпагою в руках, и, погасив огонь, сперва стал жену Маряхина бить по щекам и, поваля, таскал за волосы и бил топками и пинками». Маряхин, ошеломленный внезапным нападением, придя в себя, вступил в борьбу с разбойником-солдатом, но тот был не один, кликнул еще двух солдат, и тогда Маряхину пришлась борьба не под силу; вытащив его в сени, солдаты учинили жестокое побоище; «за волосья поднимая, били об пол». Маряхин закричал: — «Караул! спаси меня, Михайло Иванович!» — Обращение это сделано было к постояльцу Маряхина, некоему коллежскому асессору Потапову, который служил в провинциальной канцелярии по приему рекрут и, следовательно, водил дружбу с военными чинами; а потому он не только не защитил своего хозяина, но всячески издевался над ним. Наконец, сыну Маряхина удалось выбежать на улицу и позвать на помощь сторожей. Забили в трещотку, сбежался народ и хотел было задержать солдат, «но один из них, в противность военного артикула, и яко на злодеев, обнажил шпагу и тою обнаженною шпагою рассек Маряхину голову, ярославца Гаврила Волосенникова на роже уязвил, а Александру Петрову незнаемые военные люди перешибли правую руку». (Журн. 1760 г., No 32). Офицеры тоже часто прибегали к кулачной расправе, подавая, таким образом, нижним чинам дурной пример.
Из многих случаев оскорбления офицерами ярославских граждан приводим, на этот раз, следующую историю. Подпоручик Александр Языков, находившийся в Ярославле при межевых делах, требовал отвода ему квартиры. Обязанность эта лежала на купцах Егоре Одинцове и Василье Дудове; почему-то первый из них возбудил к себе со стороны подпоручика «сильное свирепство»: встретив Одинцова на улице, Языков «прибил его бесчеловечно, да, не удовольствуясь тем, явившись в магистрат, в подьяческой палате еще несколько зашиб». Обидно показалось это ратману Кирилле Овсянникову, и стал он усовещивать его благородие, говоря, что такие поступки в присутственном месте не весьма похвальны. «Оный же Языков, наступая к нему, ратману, с крайним задором говорил, что он того квартмейстера еще бил мало, да и сам он, ратман, мужик, и что он может и его, ратмана, прибить, а на последок сказал, что он, подпоручик, на оное присутствие плюет. И во время той бытности его в Ярославском магистрате в присутствии происходили от него великие шумства». (Журн. 1757 г., No 443). Далее мы увидим, какую роль играли офицеры, являясь в магистрат, который они обращали в лобное место; для полноты же картины, рисующей быт ярославцев при столкновениях их с солдатчиной, сообщим теперь следующий драматический эпизод, занесенный в магистратские летописи. Однажды (в 1755 г.), когда терпение ярославцев истощилось, между ними и солдатами произошла кровавая свалка, кончившаяся смертью одного из грабителей-солдат. Купец Клим Дудов убил железным рычагом солдата, по фамилии Абушуева. Другой купец, Иван Сыромятников, тоже принимал участие в этом убийстве, или, вернее сказать, в обороне против солдат, которые (см. выше) осаждали дом его соседа, купца Семена Шальнова. Невольных убийц ожидало страшное наказание — кнут и каторга; к счастию, над ними сжалился граф П. И. Шувалов. Приводим в сокращении его указ по этому делу, данный ярославскому магистрату, — документ очень любопытный: «Из военной походной канцелярии ее императорского величества фельдцеймейстера, сенатора, ее императорского величества, генерал-адъютанта, действительного камергера, лейб-компании подпоручика, государственного межевщика обоих российских орденов и св. Анны кавалера, графа Петра Ивановича Шувалова в ярославский магистрат указ… По следствию от суда было приговорено: 1) купца Клима Дулова, за неоднократное и с пристрастием, под битьем троекратно плетьми, запирательство и других закрывательство, и за удар на дворе ярославца Шальнова рычагом солдата Абушуева в голову, кой-де умре; 2) купца Ивана Сыромятникова, за неоднократное ж и с пристрастием двоекратно, под битьем плетьми, запирательство и других бойцов закрывательство и за битье на помянутом Шальнова дворе солдат, по силе уложения 21-й главы по 69 и 71-й статьям, по 158 пункту, с третьим толкованием, бить кнутом нещадно. А в объявленной военной походной его высокографского сиятельства канцелярии, по рассмотрении того следствия, оказалось, что помянутого солдата Абушуева объявленный купец Дудов в голову рычагом хотя и ударил, и оттого он упал на землю, а потом по усилованию, два солдата, один по другом, ворвавшися на помянутый купца Шальнова двор, другими разными в той драке бойцами биты смертельно, и из оных именованный солдат Абушуев от кого подлинно убит — во множестве собравшегося, через битье в набат, народа признать невозможно. И по следствию и через пристрастные распросы того смертного убийцы не изыскано. И то смертное убивство от них произошло не умышленное, но по нечаянности в драке, и к тому ж оные через немалое время под караулом содержались и пристрастные, под битьем плетьми, распросы претерпели. Чего ради, а особливо для многолетнего её императорского величества вседражай-шего здравия, из вышеописанного, приговоренного по суду, наказание уменьшено. А чтоб впредь им, Дудову и Сыромятникову, и другим таких продерзостей чинить было не повадно, учинить следующее: 1) купца Клима Дудова высечь плетьми и для определения в военную службу, ежели явится годен, отослать государственной военной коллегии в контору, с тем требованием, чтоб, по присылке в Москву, велено было его, для публичного церковного покаяния, отослать в монастырь на шесть недель. 2) Купца Ивана Сыромятникова высечь плетьми и отослать в монастырь в работу на три месяца и публичное церковное покаяние учинить».
Палач сделал свое дело; Дудов и Сыромятников в присутствии магистратского депутата и следователя, какого-то «адъютанта» Портнова, наказанные плетьми, узнали горьким опытом, что руки заплечного мастера — тяжелые руки. Нужно заметить, что Дудов был уже старик; за старостью и дряхлостью он избавился, по крайней мере, от солдатской службы, после освидетельствования его в военной коллегии, затем, вместе с Сыромятниковым он явился, под караулом, в духовное правление митрополита Арсения Мацеевича и принес церковное покаяние. (Журн. 1756 г., NoNo 481 и 511).
Знаменитое, сейчас названное лицо оставило после себя в наших документах тяжелую память. Переход от солдат, от представителей грубой силы, к духовному иерарху {Речь идет о митрополите Арсении Мацеевиче.} — представителю религии, т. е. мира и любви, кротости и терпения, может показаться читателям несколько странным, натянутым; но здесь, спешим объясниться, есть логическая связь, потому что Мацеевич скорее был похож на сурового генерала, чем на любвеобильного духовного владыку. Постоянным орудием его была Сила физическая, а не сила нравственная. Материалы, которыми мы пользуемся, не отличаются, относительно Мацеевича, достаточной полнотой; они, напротив, страдают отрывочностью, но все-таки дают понятие о том, что ростовский и ярославский митрополит Мацеевич принадлежал к числу самых холодных, бессердечных иерархов русской церкви…
По нашим документам, Арсений Мацеевич представляется также фанатиком. Следующие черты из его жизни не будут лишними как для биографии Мацеевича, так и для характеристики Ярославля при Елизавете Петровне.
Верный своему убеждению, что всякий, кто посягает на церковные имущества, есть первый враг церкви, Мацеевич жестоко поступал с теми из ярославцев, которые являлись ослушниками его воли. Так он распоряжался в делах исключительно гражданских, не имевших ничего общего с делами духовными, религиозными. Некто Степан Петрович Пуговишников, ярославский посадский, завладел землей, принадлежавшей когда-то церкви Николая чудотворца в подгородной Тропинской слободе. Владение это продолжалось многие годы, так. что земская давность уже прошла. Но Мацеевич решился во что бы то ни стало возвратить церкви бывшее ее имущество. Он приказал ярославскому магистрату высечь Пуговишникова и сторонника его, какого-то магистратского поверенного, Ивана Найденова. Вследствие резолюции, начертанной рукой митрополита Арсения, двое ярославских граждан подвергнуты были наказанию, т. е. телесной экзекуции. (Журн. 1759 г., стр. 230). Факт этот, впрочем, не единственный: исполняя приказания Мацеевича, пристава ярославской духовной консистории часто занимались ловитвой ярославцев, заслуживших его гнев, справедливый или несправедливый, это для нас, за отсутствием юридических улик, вопрос неразрешимый, хотя, допустив даже виновность ярославцев, личность Мацеевича в нравственном отношении от этого нисколько не выигрывает. Пристава подвергали захваченных ярославцев телесным истязаниям. Таким образом, в глазах наших предков, означенные чиновные люди, руководимые волей Арсения Мацеевича, играли почти ту же кровавую роль, как и служители святой инквизиции во времена ее господства. Правда, в Ярославле не горели, как в Испании, костры, зажженные фанатизмом и обращавшие в пепел живых людей, ради спасения души, — но пытки… пытки существовали. Каждый арест, каждое обвинение в том или другом преступлении неминуемо влекло за собою «пристрастный допрос», т. е. битье плетьми, — аресты же, производимые по воле Мацеевича, составляли явление заурядное. Сообщаем несколько случаев. Ярославский посадский Иван Пропадимов был арестован Мацеевичем за то, что «в минувшие посты, по исповеди, за нерачением своим, св. Христовых тайн не причастился». (Журн. 1755 г., No 1179). В 1756 году Ма-цеевич велел арестовать «для изыскания о расколе» ярославцев Михаила и сына его Степана Горбуновых. (Журн. 1756 г., No 768). В 1757 году приказный ростовской консистории, некто Шатров, командированный Мацеевичем в Ярославль, произвел множество арестов «за небытие через два года у исповеди и св. тайн». В помощь Шатрову, вследствие требования Мацеевича, даны были магистратские сотские. (Журн., 1757 г., No 147). Замечательно, что не одни купцы и посадские придерживались раскола, но и приказный люд, хотя, разумеется, не тот, который служил в ростовской консистории и ярославском духовном правлении. Так, в 1759 году митрополит Арсений преследовал за раскол подканцеляриста Михаила Селецкого. (Журн. 1759 г., стр. 81). Существовал в Ярославле, при Арсении, и такой юридический обычай, вероятно, находивший в душе Мацеевича полное оправдание: если раскольник скрывался, убегал от сыщиков, отправленных ростовским митрополитом, тогда, согласно резолюции последнего, ярославский магистрат брал под караул хозяев, родственников или друзей беглеца, в виде заложников, впредь до поимки бежавшего. Так, в 1760 году Арсений приказал арестовать двух братьев — раскольников Феодора и Михаила Смирновых; но братья успели спастись от рук консисторских приказных, зато друзья их и родственники, в числе пяти человек, были брошены в магистратскую тюрьму. (Журн. 1760 г., NoNo 348 и 422). В 1760 году Мацеевич воздвиг гонение «по раскольническому делу» на пятерых купцов, пятерых Иванов: Ивана Егорова, Ивана Дмитриева, Ивана Петрова, Ивана Васильева и Ивана Шапошникова. (Журн. 1700 г., No 164). Почему, на этот раз, только одни «Иваны» провинились перед грозным ростовским митрополитом, или сходство имен произошло случайно, не знаем: в магистратских делах нет никаких разъяснений этого обстоятельства, поименный же «раскольничий список» вело ярославское духовное правление, от которого магистрат получал только справки для обложения раскольников усиленным денежным сбором в казну ее императорского величества. (Журн. 1756 г. No 260). Нет сомнения, Мацеевич жестоко оскорблялся тем, что даже члены ярославского магистрата придерживаются в деле веры «старины»: первый ратман ярославского магистрата Кцрилло Овсянников был вызван митрополитом «для духовного исправления». (Журн. 1756 г., No 423).
Понятно, что все эти гонения не могли способствовать укреплению любви и взаимного доверия между Арсением и его паствой. Старая вера имела в Ярославле огромное число представителей, особенно влиятельных в среде купечества, благодаря корпоративной связи, свойственной тогда, как и теперь, замкнутому миру почитателей древнего благочестия. Питаемое ярославцами нерасположение к Мацеевичу выражалось иногда народными волнениями. В 1757 году Арсений распорядился сломать древнюю каменную часовню, стоявшую на дороге от Ярославля к Толгскому монастырю, а икону, написанную в той часовне на стене, куда-то «занесть», вероятно, пустить по течению реки Волги, согласно обычаю. Но часовня с иконой пользовались особенным уважением старообрядцев. Мацеевич опасался со стороны их «продерзости», и потому отправил для сломки часовни одного из состоящих в его команде офицеров, подпоручика Петра Лазарева, с иеродиаконом и вооруженными солдатами, потребовав, вместе с тем, и от ярославского магистрата, чтобы «и оный подкрепил консисторскую команду сотскими, пятидесятниками, дабы от народного собрания не последовало прежде бывшего случая, а паче смертного убийства«. (Журн. 1757 г, No 350).
Из этого, к сожалению, довольно темного рассказа мы видим, что некоторые распоряжения Мацеевича волновали народ до такой степени, что можно было опасаться при этих волнениях народной, мести, проявлявшей себя убийством: требовалась вооруженная сила для удержания народа от убийства, вызванного распоряжениями Мацеевича.
Замечательно, что ярославский магистрат, беспрекословный исполнитель распоряжений Мацеевича, в некоторых случаях являлся ослушником его воли. Это мы видим в делах, касающихся уничтожения не старых часовен, а кабаков, которые составляли при Елизавете монополию государства. Когда Мацеевич требовал уничтожения этих притонов разврата, магистрат противился, хотя в данном случае Арсений был прав, заботясь о народной нравственности, жестоко подрываемой пьянством как теперь, так и в старину. Кабаки строились нередко рядом с церквами. Духовенство совершало таинства церковные, пело молитвы, а в то же время пьяная толпа голосила разгульные песни и, мешая церковной службе, ругалась, производила драки. Мацеевич восставал против такого бесчинства, запрещал строить питейные дома близ церквей; но, в видах увеличения кабацких сборов, магистрат оставлял без уважения горячие протесты Арсения, которому ярославское духовенство приносило убедительные жалобы, подобные следующим: «Имеем мы (поп Тверицкой слободы Яков Федоров с причетниками) не малое опасение, понеже от напивавшегося до пьяна народа чинятся (в кабаке) ссоры и драки и в тех драках смертные убивства». (Журн., 1756 г. No 258). Мацеевич гремел анафемой против ярославских пьяниц, возмущавших церковное благочиние, но его проповеди оставались гласом вопиющего в пустыне: пьянство было сильно развито в Ярославле. Кроме казенных кабаков, во многих местах существовала тайная продажа вина, привлекавшая, как увидим далее, виновных к тяжелым наказаниям. Еще более страдало самолюбие Арсения от той холодности, с какою относились ярославцы к его поучениям «о зловредности богоненавистного раскола». Указом от 13 апреля 1754 г. походная контора ростовского митрополита сообщила ярославскому магистрату следующий, важный для характеристики Мацеевича, указ: «Его преосвященством усмотрено, что когда его преосвященство говорил поучения к народу от слова божия, то собиралось народу не мало, до того, покамест не начал вспоминать о богоненавистном расколе; а когда стал о том вспоминать и толковать, тогда весьма мало приходить народа стало, за которым презрением проповедей оказуются в правоверии сумнительны. И тако его архипастырство приказал: всех разночинцев и ярославское купечество, кроме духовных, военных, штатских, дворянства и приказных, мужеска и женска полу от седмилетнего возраста, поприходно не обходя никого, ростовской соборной церкви ключарю, иерею Стефану, привесть к присяге«. (Жури. 14 апреля 1754 г., No 423). Иерей Стефан озаботился составить длинный список лиц, заподозренных им в холодности к православию и приверженности к расколу. (Журн. 1754 г., No 617). Семилетние ребята, если они почему-либо не приняли присягу от упомянутого иерея, любимца Мацеевича, оказывались приверженцами богоненавистного раскола!.. Судя по следующему факту, небытие на исповеди могло даже лишить церковного погребения: рыбак, ярославский посадский Тимофей Андреев, столкнул с лодки и утопил своего родственника Федора Таланова; утопленник, хотя и не самоубийца, был отпет попом, не прежде, как митрополит дал попу разрешение, основанное на том соображении, что Таланов «исповедался в минувшую четыредесятницу». (Жури. 1760 г., No 545). Открытие мощей св. Дмитрия Ростовского повлекло за собой несколько розыскных дел. Особенно тщательные поиски в Ярославле произведены были за купцом Максимом Мошонкиным и за работником его Иваном Коширкиным, которые произнесли «богохульные слова к поруганию святителя и чудотворца Дмитрия». (Журн. 1759 г., стр. 229). Консисторские канцеляристы обогащались, производя охоту на раскольников, и если сам патрон их, Мацеевич, ознаменовал себя примерным бескорыстием (нужно отдать ему в этом полную справедливость), то клиенты его не были бессребренниками, что доказывается, между прочим, большими капиталами, которые хранились ими в церковных кладовых. У одного из канцеляристов Мацеевича похищено было однажды более 500 рублей серебряною монетой — сумма значительная для того времени, тем более, что приказная братия получала ничтожное жалованье…
Выше мы видели, какое значение имели для ярославцев представители двух, вовсе не сродных, элементов — военного и духовного. Был еще третий элемент, сильно и зловредно влиявший на общественную жизнь наших предков: мы разумеем приказное сословие. Оно было обширно, и народ, имевший полное право ненавидеть этих людей, недаром заклеймил их насмешливо пословицей: «плодовит как приказное крапивное семя».— В наших бумагах сохранились сведения собственно о магистратских приказных; но едва ли они отличались чем-либо существенным от своих братии, наполнявших другие ярославские присутственные места.
Между приказными соблюдалась следующая иерархия: писчик потом копиист, затем подканцелярист и наконец уже следовал вожделенный сан канцеляриста. (Журн. 1756 г., No 101). Повышение шло довольно туго. Магистрат награждал иногда вследствие особенных событий. Так, 13 октября 1754 года получено было магистратом официальное известие о рождении великого князя Павла Петровича. Торжество было не малое, с пушечною пальбою. «В ознаменование же таковой дарованной от Всевышнего господа всеобщей радости, магистрат удостоил подканцеляриста Бухарина чином канцеляриста, а Ивана Мушникова, писчика, произвел в копиисты, обязав их с рукоприкладством и клятвою, чувствовать высочайшую милость и впредь служить усердно и верно». (Жури. 1754 г., NoNo 992 и 993). Магистратские приказные получали жалованье от «первостатейного и посредственного купечества», по раскладке; жалованье, как уже замечено, было маленькое, да и то выплачивалось не всегда исправно, с задержками. (Журн. 1760 г., No 109). Удивительно ли, что процветало взяточничество? Нужно было- пить-есть, содержать семью, а подчас платить значительные штрафы, которые взыскивались с приказных за разные служебные неисправности. В 1760 году магистрат замедлил отправлением к московским властям «ведомости о колодниках», за что означенные власти и присудили купцов — магистратских членов оштрафовать 50 рублями, члены же со своей стороны решили, что виноваты не они, а подчиненные им канцеляристы, не сочинившие в срок упомянутой бумаги, и бедные приказные волей-неволей должны были внести громадную для них сумму, (Журн. 1760 г., No 148). Пьянствовали приказные «весьма знаменито» и не обижались, если бургомистр или ратман, с целью укрепить в трезвости, снявши с загулявшего приказного сапоги, ввергал его, босоногого,, в колодническую будку, «дондеже не отрезвится и в разум не придет», но приказные убегали оттуда босиком: народ был нецеремонный. (Журн. 1756 г., No 275). Снятие обуви, конечно, не составляло особенной чувствительной беды: бывало гораздо хуже. Однажды бургомистр Андрей Барсов приказал копиисту Ключикову списать копию с нужной бумаги; так как дело пришлось под новый год, то Ключиков загулял и не исполнил воли бургомистра, даже в магистрат не явился, почему и воспоследовала таковая резолюция: «Ключикова сыскать и, заковав в железа и цепи, задержать под караулом». (Журн. 1760 г., No 1).— Впрочем, и между канцеляристами были люди влиятельные, пользовавшиеся уважением и доверием ярославского купечества. Плохое знакомство членов магистрата с законами, а тем более с канцелярскими обрядностями, объясняет, почему в некоторых случаях мы видим магистратских приказных облеченными в звание «поверенных от ярославского гражданства»; такие поверенные были посылаемы в Москву и другие города. (Журн. 1760 г., No 243). Вновь избранные магистратские президенты ездили в столицу обязательно, но только по другим причинам. Президенты выбирались непременно из «первостатейного купечества, люди пожиточные, неподозрительные, грамоте и писать умеющие и к магистратскому правлению достойные». Последнее достоинство контролировалось главным магистратом, который прежде чем утверждал излюбленное гражданами лицо в должности президента, вызывал его к себе «для усмотрения достоинства». (Журн. 1756 г., No 660). Цель благая; но, кажется, при этих усмотрениях опустошались карманы «излюбленных» выборных лиц, ездивших на смотры и экзамен в сопровождении магистратских канцеляристов, своих клиентов и в то же время руководителей.
Отношения главного магистрата к ярославскому магистрату были, вообще, строго-начальнические: указы посылались грозные, рапорты же отличались крайним смирением, близким к раболепству.— Ярославский магистрат замедлил присылкой ведомости об окладных сборах, и к нему явился нарочный с указом; последний грозил подвергнуть господ членов «жестоким истязаниям», а приказных служителей — аресту. (Журн. 8 февраля 1754 г., No 130). В другом указе находим угрозу, что бургомистр и ратманы будут содержаться в магистрате «неисходно», если не исполнят немедленно повеления, о выдаче жалованья какому-то консулу Чекалевскому и его подьячим. (Журн. 15 марта 1754 г., No 289). Московские власти стращали также не оставить без наказания манкировку, и обязывали членов магистрата «являться к присутствию в указные часы, не отлучаясь от присутствия никуда, для своих нужд без указу». По истечении каждого месяца магистратские приказные служители составляли ведомость о том: кто из господ членов когда прибыл в присутствие и когда удалился. (Журн. 1760 г., No 145). Присутствующие, если верить журнальным отметкам, являлись на службу рано — часов в 7 утра, уходили же домой в 2 часа пополудни, кроме тех случаев, когда наезжавшие из Москвы ревизоры подвергали их аресту вместе с приказною братией.
Наезды ревизоров были часты и почти каждый раз сопровождались для магистрата и его канцелярии печальными событиями. Пусть читатель не думает, что ревизоры и понудители занимали важные должности. Совсем напротив. Означенные внезапные наезды делаемы были, по большей части, военными особами не крупных чинов: являлись какие-нибудь прапорщики, много-много поручики, или такие же канцеляристы, как и ярославские, только столичные, а следовательно, обладавшие значительнейшим гонором, который, по тогдашнему обычаю, они заявляли ругательствами и побиением магистратских приказных. Следующие факты красноречиво изображают быт русского чиновничества в половине минувшего столетия. Что значат щедринские герои. Живоглоты с Ко, в сравнении с теми героями, о которых мы будем сейчас говорить!
В апреле 1754 года прибыл в ярославский магистрат некто Андрей Григорьев, московский регистратор, с указом, повелевавшим ярославскому купечеству доставить несколько сот лошадей «для высочайшего шествия из Москвы в С-Петербург». Григорьеву захотелось показать свое «я», и он, немедленно по приходе в магистрат, набросился на канцеляриста Сретенского, «ругал его вором, грозил смертною казнию и, знатно, забыв государственные права и не устрашась на судейском столе ее императорского величества указов, яко благочиния зерцала, из крайней своей злобы замахивался на него (Сретенского) бить, называл канальею и бестиею, и бранил м… но». Вся вина Сретенского состояла в том, что, дожидаясь почты, он не отправил в Москву с нарочным каких-то бумаг, сочиненных Григорьевым; последний, не ограничиваясь площадной бранью, приказал своему спутнику — сержанту бить Сретенского, но сержант отказался от побиения; магистратские же члены, сидевшие за судейским столом, не дерзали вывести буяна из присутственной камеры, «яко присланного из главной команды», хотя и «чувствовали себя преогорчительно обиженными», и ограничились только тем, что дали Сретенскому, принятый им, благой совет: — «Беги в другую камору!»
«И подканцелярист Сретенский (читаем в магистратском журнале) принужден был из судейской каморы выйти вон. А он, регистратор Григорьев, не учуствовавшись в нанесенной присутственному месту обиде, выбежал за ним и сам собою, делая многие опыты руками придирался к нему, Сретенскому, бить, который, едва освободясь от наглого его нападения, мог, из судейской каморы вышедши вон, схорониться, запершись в другую палату».
Присутствующие начали было уговаривать Григорьева:
— «Сие не похвально и противно закону. В именном указе 1724 года установлено штрафование бессовестных, которые неучтивым образом в присутственных местах поступают».
— «Вы имеете в магистрате воров и укрываете оных!» — вопиял Григорьев, с прибавлением крепких слов.
— «За сие наглое невежество, а особливо за скверно-словную брань, надлежало бы взять с вас, господин регистратор, штраф, десять рублёв; но понеже вы присланы из главной команды, а особливо за самонужнейшим и высочайшим делом, то неугодно ли взять благопристойно магистратский репорт в конверте?»
Регистратор разорвал конверт, потом опомнился, стал «свои неправые и в противность: регулам поступки признавать». Конверт был запечатан вторично и вручен Григорьеву, а он «с нахальством и незнамо какой имея к наруганию вымысел, и с другого конверта печать в великом азарте сорвал и пакет бросил, крича:
— «Сретенский подлежит пытке и смертному истязанию!»
Магистратские члены оскорбились.
— «Сии поношения и ругательства и угрозы к пытке и к смертному истязанию, и нарекание ярославского магистрата присутствующих, что якобы они при магистрате воров имеют и в том их закрывают, нанесли присутствующим преогорчительную обиду».
Наконец, Григорьев взял запечатанную уже в третий раз бумагу и уехал из магистрата, который успокоил себя таким рассуждением: «Знатно (т. е. вероятно), уже совестно стало, а паче опасался достойного за наглости, по указам, воздаяния?» (Журн. 1754 г., No 456).
Но никакого воздаяния не последовало. Люди, подобные регистратору Григорьеву, как люди чиновные, могли безнаказанно оскорблять людей выборных, состоявших на общественной службе…
Вбегает в магистрат поручик Яков Чириков, присланный из государственной ревизион-коллегии вбегает не один — с солдатом и учиняет следующее: «Незнамо какому находящемуся при нем солдату, без всякого резону и указного повеления или инструкции, приказывал, незнамо за что, ярославского магистрата присутствующих держать под караулом, а сам незнамо куда вышел; почему они, ярославского магистрата присутствующие, того числа (28 марта 1756 года) до вечера неповинно под караулом и содержались».
Стемнело. Чириков не является. Голод мучит. Адмиральский час давно пробил. Говорят солдату:
— «Принуждены мы потребовать от тебя о содержании нашем инструкции».
— «Никакого письменного повеления не имею», — отвечает служивый.
— «Так мы уйдем! — решают бургомистры Дмитрий Холщевников и Кузьма Бахтеяров.— Стало быть, мы задержаны неповинно».
«И, объявя тому солдату, что они без инструкции, так, напрасно, без всякогЪ виду, под караулом держаться не должны, из-под караула вышли… А на другой день, утром, явился тот же офицер и бранил магистратских членов за уход из-под караула:
— «Как вы, разбойники, смели уйти?»
«И таковым напрасным и непристойным нареканием, якобы вышли разбоем, он, поручик Чириков, оное присутствие крайне предобидел». (Журн. 29 марта 1756 г., No 235).
Этот Чириков был и раньше слишком хорошо известен ярославскому магистрату. 10 ноября 1754 г. он вошел в магистратские палаты «и непристойным образом, как видно находясь в шумстве, не требуя ничего, судящим объявил, что он, Чириков, их арестует, и потом, отворя судейской каморы двери, ввел в судейскую камору сержанта Золотарева да капрала Хохлова».
Присутствующие «со своею учтивостью» спросили:
— «По какому резону объявлен нам арест и в чем от ярославского магистрата требование состоит?»
Молча, не сказав ни слова, удалился Чириков; а стража (сержант с капралом да несколько солдат) стала караулить магистратских членов, которые, «видя необыкновенную от него (Чирикова) строгость и напрасный арест», означенного сержанта Золотарева и капрала Хохлова спрашивали:
— «Почему вы при ярославском магистрате состоите, и имеете ли от ярославской провинциальной канцелярии или от поручика Чирикова инструкцию?»
— «Никакой (отвечали сержант и капрал) инструкции мы не имеем, а токмо ярославский воевода, коллежский советник господин Павлов, словестно велел нам идти в магистрат».
— «Мы ярославского магистрата присутствующие, сего неповинного от вас аресту, без всякого письменного приказания, терпеть не должны; того ради, вы, сержант да капрал с командою, из магистрата выступя, идите в свою команду».
Повидимому, сержант послушался, ушел, но вскоре вернулся, усилив свою дружину тремя солдатами, между которыми — с одной стороны и магистратскими приказными — с другой учинилась баталия, и хотя викторию одержали приказные, но она досталась им не дешево. Реляция об этом курьезном сражении в магистратский журнал занесена так: «Они (т. е. солдаты) ярославского магистрата присутствующим, при выходе, в сенях и на улице чинили с крайним презорством предобиды и толкали, и видно имели намерение как он, сержант Золотарев, так и, по приказу его, сержант Хохлов и солдаты, ременных присутствующих бить, и драли на них платье, отчего едва через ярославского магистрата приказных и сторожей могли господа присутствующие получить избавление». (Журн. 1754 г., No 1, III).
Вот и еще подвиг того же Чирикова:
«30-го сентября (1754 г.) поручик Яков Чириков, вошед в магистрат, в присутственную камору уже пополудни, в немалом шумстве {Часто встречаемое выражение: «немалое шумство» заключало в себе тонкий, деликатный намек на то, что учинявшие это «шумство» были пьяны.— Л. Т.} требовал с великим азартом исполнения указа ревизион-коллегии о доставке кабацких счетов». Находившийся тогда в магистрате ратман Андрей Барсов почтительно отвечал:
— «Рапорт, с прописанием всех обстоятельств, изготовлен. Получите!»
Не взирая на «решпехт», оказанный ему ратманом при вручении бумаги, Чириков спрятал ее, не читая, в карман и завопил:
— «Где кабацкие счеты? где? давай их мне сей же момент!»
«И кричал он сие с немалым же азартом, а не так, как честному офицеру в присутственной каморе следует иметь поступки… И затем оный поручик из крайней злобы имеющемуся при нем солдату приказал ратмана Барсова и приказных служителей задержать, без всякого резону, и потом, вышед вон, прислал для того задержания еще ярославской провинициальной канцелярии двух человек солдат, которыми он, ратман Барсов, со всеми приказными служителями, несколько времени и был содержан. К теми своими непристойными и шумственными поступками оный поручик Чириков ярославскому магистрату нанес крайнюю предобиду». (Журн. 1754 г., No 925). Не довольствуясь, однако, нравственным унижением, в которое он поставил магистрат, Чириков жестоко прибил «писчика» (писца) Ивана Ключикова, а затем купца Андрея Травщикова, да сына его Алексея Травщикова бесчеловечно изувечил, в чем ему помогали солдаты. (Журн. 1754 г., No 926) Магистрат умолял начальство не оставить Чирикова «без отмщения», но жалобы пропадали бесследно; главный государственный магистрат, которому они приносились, смотрел на них равнодушно, прятал под сукно, шли же стращал горемычных ярославцев, «яко кляузников», что они будут подвергнуты новым, более долговременным арестам. К последним прибегала также и государственая камер-коллегия: в декабре 1754 г. явившийся в магистрат с указом этой коллегии сержант Петр Ломов держал несколько дней «без выпуску» как магистратских присутствующих, так и канцеляристов, до тех пор, пока один из них умудрился сочинить требуемую бумагу. (Журн. 1754 г., No 1219).
Вероятно, ярославцы помирились бы еще как-нибудь с описанными невзгодами. Аресты, производимые солдатчиной, ее буйство, самоуправство были, конечно, возмутительны, тяжелы; но гораздо тяжелее была участь тех, которые обрекались на вступление в эту солдатчину. Рекрутская повинность, теперь уже не особенно страшная, не вызывающая море народных слез, при Елизавете была невыносимо отяготительна; купечество же несло ее наравне с прочими сословиями, что, конечно, вполне справедливо с современной точки зрения, по введении у нас всесословной воинской повинности, — но в Елизаветинское царствование весь склад общественной жизни и все распоряжения правительства неминуемо обусловливали в торговых людях крайнюю антипатию к военной службе. Легко было купцу попасть в солдаты, трудно было освободиться от ружья и заменить его снова аршином. «В солдаты попал — человек пропал!» — говорили и думали ярославцы-купцы. Особенно роптали они на местных фабрикантов, которые приписывали к своим фабрикам и заводам посадских людей. Жалобы основывались на том, более или менее справедливом соображении, что фабриканты, и в числе их преимущественно богач Затрапезнов, спасали от рекрутчины (руководясь, впрочем, чисто эгоистическою целью) посадских — «людей худших», между тем, как они, купцы, «люди торговые и добрые», принуждены нести тягость рекрутской повинности, которая, заметим кстати, выполнялась в Ярославле весьма патриархально. Состоявшая при воеводе военная команда ловила молодых купцов и посадских, кто под руку попадется, и доставляла к господину воеводе. Некоторые откупались от ненавистной красной шапки, ублаготворивши воеводу с его алчной приказной челядью; другие же, победнее, не имея средств откупиться, шли сражаться…
Магистрат просил государственную мануфактур-коллегию обязать фабрикантов, чтобы они не смели скрывать у себя людей, годных к военной службе, и не увеличивали бы числа фабричных; в противном случае, по соображениям магистрата, «ярославское купечество, за таким оных фабрикантов упорством, придет в конечный подрыв и не будет в состоянии платить государственные подати». (Журн. 1759 г., стр. 129).
Зато велика была радость магистрата, когда ему удавалось захватить ненавистных для купечества фабричных людей. Удобные случаи представлялись нередко во время народных гульбищ. Так, 27 мая 1759 года «сотские усмотрели на лугу, где бывает во время погребения странных народное гульбище, называемое семик, ярославцев посадских людей Якова Кузьмина Балагурова да Василья Андреева Челышева».
— «Ну, молодцы! вас-то нам и нужно, — сказали сотские.— Довольно погуляли, пора и на службу».
Но посадские объявили, что они находятся, по записи, в работе на фабрике Дмитрия Затрапезнова и утверждали, что эта запись дана на пять лет, а срок ее еще не минул. Не внимая этим уверениям, сотские приволокли обоих посадских в магистрат, который, разумеется, и отдал их в солдаты «за доброе и. тягловое ярославское купечество». (Журн. 1759 г., стр. 233). Впрочем, производимые сотскими ловитвы имели иногда трагический конец. В 1760 г. сотские Иван Кропин да Николай Ушаков, исполняя распоряжение магистрата, пошли ловить по домам посадских для отдачи в военную службу, и, между прочим, завернули в дом посадского Михаила Баранникова, где в то время происходила свадебная пирушка. Незваных гостей встретили ножом. «Ярославский посадский человек Абросим Николаев Киселев, ухватя нож, у находящегося при сотских десятника Михаила Васильева Работнова прорезал брюхо с немалым повреждением живота его«. Не без труда сотские выручили своего раненого товарища и увезли домой. Киселев подвергнут был за то преступление магистратскому суду; его пытали три раза, секли плетьми, добиваясь признания, что он ранил десятского не случайно, а по злому умыслу; но Киселев стойко выдержал троекратную пытку, показавши, что «от безмерного пьянства того десятского Михаила Работнова каким ножом или чем другим в брюхо ткнул, — того-де он не помнит». На повальном обыске соседи Киселева одобрили его поведение, и этот юридический акт, разумеется, при достодолжном приношении воеводе, спас виноватого от угрожавшей ему каторги. Но магистрат наказал Киселева плетьми в четвертый раз — теперь уже не за покушение на убийство, а собственно за «непомерное пьянство». (Журн. 1760 г., NoNo 579 и 817). Посадский Никита Кувшинников, не желая отдать сына в рекруты за ярославское купечество, также прибегнул к оружию для защиты своего детища от присланных за ним вербовщиков — сотских: ранил одного из них, проколол-щеку железною пешней; кроме ее, на случай появления вербовщиков, Кувшинников устроил у себя целый арсенал из, топоров, но они были своевременно отняты. (Журн. 1755 г., No 207).
Кроме укрывательства на фабриках по записям, о значении которых мы сообщим далее, ярославские посадские находили себе убежище в других городах, — убежище не всегда верное, потому что магистрат и туда отправлял своих гонцов, снабдив их инструкцией: «Пристойным образом чрез обывателей разведывать, где находятся беглецы, и сыскивать их накрепко, и ходить по обывательским домам, имея усердное старание, дабы оные посадские люди никоим способом в тех домах и прочих местах от поимки укрыться не могли». (Журн. 1756 г., No 662). Некоторые предпочитали бегству членовредительство; другие же, сделавшись калеками, вследствие случайных обстоятельств, спешили заявить о том магистрату, опасаясь, чтобы телесные их недостатки не были отнесены к умышленному членовредительству, с целью избавиться от военной службы. Поэтому не удивительны челобитья, подобные следующему: «Если я, повредивший себе ногу упавшим бревном при гашении пожара на дворе бывшего герцога Бирона, для какой-либо нужды понадоблюсь, то об оной моей ноге не причтено было бы мне в вину«. (Журн. 1760 г., No 565). Битые кнутом (но не плетьми) возвращались обратно из военной службы, если правительство узнавало, что они потерпели это позорное наказание. Взамен битых требовались другие, не битые. (Журн. 1756 г., No 310). Отсюда можно заключить, что правительство сознавало уже и в Елизаветинскую эпоху потребность избавить русскую армию от людей, опозоренных кнутобойством; но, с другой стороны, здесь могла быть иная цель, именно желание составить армию из людей крепких, здоровых, — кнут же оставлял после себя ужасные следы на том, кто имел несчастие побывать в руках заплечного мастера и разрушал человека столько же морально, сколько и физически…
Упомянутая кабальная запись, или просто запись составляла в Ярославле документ очень употребительный. Миллионер Дмитрий Затрапезнов, местный Крез, имел на своей фабрике несколько сот «приписных», вернее сказать, закабаленных людей. Запись совершалась на известный, определенный срок, не в силу крепостного права, хотя из магистратских бумаг видно, что некоторые ярославские купцы владели рабами. Так, в 1754 г. купец Рыбников подал в магистрат челобитье о том, что у него сбежал раб калмыцкой породы. (Журн. 1754 г., No 786). Причина, по которой ярославские посадские люди, юридически свободные, отдавались Затрапез-нову в кабалу, объясняется, кроме бедности их, желанием избавиться от рекрутчины. Сильная рука Затрапезнова спасала посадских во многих случаях от власти городской купеческой аристократии, подлежащей отбыванию рекрутской повинности, так же, как подлежали ей и плебеи посадские. С ярославских горожан требовалось, например, 50 человек рекрут. Естественно, купцы желали, чтобы эти 50 человек были взяты не из среды их, а из посадских. (Журн. 1760 г., No 601). Жизнь приписанных к фабрикам людей была все же менее страшна, чем поступление в солдаты: по крайней мере, человек не отрывался навеки от семьи, от родины. Степень благосостояния фабричных зависела от личности хозяина — фабриканта. Если фабрикант был самодур, деспот, любитель кулачной расправы, тогда фабричному жилось плохо. В наших бумагах встречаем, например, челобитье четырех ярославских торговцев, поданное магистрату о том, что купец Иван Колчин тиранит отдавшегося ему на пять лет в работу ярославца посадского человека Семена Михайлова Бошарина. Согласно записи, Бошарин обязался служить Колчину на шляпной фабрике; вместо того его отправили на завод, где выделывался сурик, «который завод весьма вредный, и в оном работники больше месяца работать не могут, и всегда Колчин Бошарина к той работе усиливает и бьет бесчеловечно, отчего он, Бошарин, может умереть; а им, просителям, будет убыток«. (Журн. 1755 г., No 767). Слова эти означают, что челобитчики поручились за рабочего в исправной уплате долга фабриканту Колчину и, в случае смерти первого из них до истечения пятилетнего срока, обязаны были уплатить Колчину ту сумму, которая осталась незаработанного. В фабричную кабалу попадали и насильно, помимо собственного желания. Приводим, как любопытный факт, рассказ ярославского купца Ивана Андреева Горшкова. Записанный в ярославское купечество, он платил подати исправно, да на беду свою знал хорошо «бахрамное, кистейное и пуговное художество»; и жил он по паспорту, выданному из ярославского магистрата, в столичном городе Москве «на плащильной и волоченой золота и серебра фабрике» Ильи Докучаева «с товарищи»; Илья же Докучаев «с товарищи», обуреваемый духом любостяжания, задумал укрепить у себя его, Горшкова, в вечное служение и работу без всякого желания его и письменного объявления. Задумано — сделано. Каким-то образом, тайком от Горшкова, сей ярославский купец оказался приписанным к фабрике Докучаева «с товарищи»; он приносил кому следовало многие жалобы, только все они имели плачевный конец: «содержание в тяжкой чепи» (на цепи). Государственная мануфактур-коллегия, покровительница богатых фабрикантов и в то же время неблагосклонно смотревшая на их рабочих, выдержала Горшкова под караулом более двух недель, и бог знает, сколь долго протянулся бы сей «караул», если б Горшкову не помогла благодетельница судьба в лице некоего курьера Побединского. Императрице Елизавете Петровне понадобились художники, умевшие делать отменно-хорошо бахромы, кисти и пуговицы, почему от кабинета ее величества и был отправлен на фабрики вышереченный курьер Таврило Побединский, узнавший случайно о художестве Горшкова, который сидел под караулом, ибо упорствовал в своем нежелании войти в разряд фабричных невольников. Благодаря Побединскому, «художник» избавился от кабалы; но, опасаясь пущего насилия со стороны фабриканта Докучаева, он исходатайствовал в магистрате документ, который удостоверял принадлежность его, Горшкова, к ярославскому купечеству. (Журн. 1756 г., No307).
В тех случаях, когда купцу не удавалось забрить в солдаты, вместо себя, фабричного или посадского, а между тем наступала неминуемая нужда исполнить рекрутскую повинность, — купец отправлялся путешествовать по своему уезду, а иногда и по отдаленным местностям, он заезжал в господские усадьбы и покупал у дворян крепостных людей. Прежде чем совершить это путешествие по матушке России, напоминающее нам о путешествиях незабвенного Павла Ивановича Чичикова, с тою разницей, что Чичиков благоприобретал мертвые души, а ярославские купцы — души живые, облеченные в плоть и кровь, — наши коммерсанты обязаны были обратиться в магистрат с челобитною, в которой заявляли, что «желают-де они за себя (или за свое семейство) купить человека на имя магистрата«. Купцам не разрешалось личное приобретение людей, но магистрат — лицо юридическое — имел право на эту покупку и, согласно просьбам купцов, выдавал им аттестат, т. е. свидетельство, формулированное так: «Челобитчику, ярославскому купцу No, дав сей аттестат в том, что магистрат ему верит в покупке на собственные его, челобитчика, деньги у помещика, у кого он отыскать может, на имя оного магистрата, дворового человека или крестьянина в рекруты, как ростом, так и летами пригодного в военную службу, достойного, неподложного и неподозрительного». (Журн. 1760 г., NoNo 556, 557 и многие другие). Заручившись этим документом, ярославский коммерсант не рисковал, подобно Чичикову, приобрести, вместо мужика, какую-нибудь бабу Елизавету-Воробей, ибо Собакевичи половины XVIII столетия вели дело на чистоту, продавали живой товар, действительно «неподложный и неподозрительный». Купив у дворянина этот товар уже после поступления в военную службу, ярославский купец сноза возвращался к своим торговым занятиям. (Журн. 1760 г., No 473). Но это бывало только в редких, исключительных случаях, потому что каждый старался избежать даже кратковременного пребывания в солдатах и спешил заранее, до отдачи в рекруты, поставить взамен себя или посадского, или крепостного человека…
Теперь обратимся к другим повинностям, лежавшим на ярославских горожанах в царствование Елизаветы Петровны. Отсюда также можно извлечь некоторые исторические и бытовые черты, касающиеся ярославцев описываемой эпохи.
Красавица, «лебедь белая», императрица Елизавета Петровна была большою гастрономкой, особенно в последние годы своего царствования, когда образ жизни оставил следы на лице ее, некогда, во времена молодосги. отличавшемся необыкновенною прелестью {«Очерк царствования Елизаветы Петровны», Ешевского, том II, стр. 405.}. Гастрономические потребности Елизаветы отчасти удовлетворялись жителями ярославской провинции. «Шекснинска стерлядь золотая», воспетая позже, при Екатерине, Державиным, и не воспетая им, но также очень вкусная белорыбица обязательно поставлялись к императорскому двору. Переписку об этой натуральной повинности вел с ярославским магистратом, при посредстве местного воеводы, гофмаршал барон Карл Ефимович Сиверc, настойчиво требовавший, чтобы «магистрат приложил наиприлежнейшее и неусыпное старание к поимке белой рыбицы». Особенная потребность чувствовалась в ней великим постом, ради желания примирить гастрономические наклонности Елизаветинского двора с требованиями церкви. «Как скоро хотя одна или две рыбы изловлены будут, то оные (писал Сивере) отправить ко двору с проводником, который должен быть в сбережении их знающий и весьма надежный человек». Ярославские рыбаки получали от магистрата строгий наказ, во что бы то ни стало, постараться исполнить гофмаршальское повеление; впредь же до исполнения сего, никто из рыбаков, под опасением великого штрафа, не дерзал, продать белую рыбицу «в партикулярные руки». (Журн. 1759 г., стр. 78, 104, 151).
В 1759 году были высланы в Петербург, для постройки дворца, каменщики, «люди добрые и свое дело знающие». (Журн. 1759 г., стр. 72). В 1760 году, кроме каменщиков, такая же повинность легла на штукатуров и печников. (Журн. 1760 г., No 769). Подводная повинность исполнялась не без труда: случилось, что ярославское купечество зараз должно было выставить более сотни подвод под артиллерийские орудия и везти их до Пскова, отрядив при том двух купцов, «лошадиных приставов», до места доставки артиллерии. (Журн. 1759 г., стр. 24, 70 и др.). Ярославцы должны были не только возить артиллерию, но и доставлять для русской армии, сражавшейся с Фридрихом Великим, некоторые военные снаряды. Граф Петр Иванович Шувалов, во исполнение высочайшего е. и. в-ества рескрипта, предписал ярославскому магистрату «на новоучреждаемые нового корпуса полки к копьям пикинерским древки и рогаточные брусья сделать: копей пикинерских длиною 8 арш.— 432, рогаточных брусьев — 9 000» и проч. На исполнение дан был двухмесячный срок. Присланы были офицеры с образцами означенных предметов. Магистрату приказано: «те древки, а наипаче брусья сделать неотменно в. самой скорости, не представляя никаких к тому якобы невозможностей и отрицаний, под опасением взыскания с магистрата тягчайшего штрафа». (Журн. 1757 г., No 10).
К числу натуральных повинностей принадлежала должность целовальников. Их было много: целовальники при продаже соли, пороху, целовальники при сборе денег в царевых кабаках и т. д. Провинциальная канцелярия требовала, чтобы все эти должности замещались людьми добрыми и неподозрительными, «дабы не могло учиниться ущербу интересам ее императорского величества». (Журн. 1760 г., No 20). Повинность, исполняемая сотскими и десятскими, была самая неприятная: купцы били их по щекам, считали за своих слуг. (Журн. 1757 г., No 87). Митрополит Арсений Мацеевич, руководясь указом 1703 года, возложил на ярославских граждан забытую ими денежную повинность, именно плату соборным сторожам «безбедного жалования, дабы те сторожи в пропитании своем нужды не имели; они же, сторожи, и на колокольне всегда исправляют звонарскую должность, без чего и пробыть отнюдь нельзя и невозможно». (Журн. 1757 г., No 42). Подушная подать, которую несли как купцы, так и посадские, взыскивалась строго. С жалобщиками на неправильную раскладку податей магистрат поступал неумолимо и держал их «под караулом безысходно»; так как магистратским членам вовсе не было желательно платить за недоимщиков свои деньги. «Буде же кто из купечества (читаем в журнале 1756 г., No 237), тех подушных денег платить не станет упрямством и ослушанием, и таковых ослушников, кто б ни был, на страх другим, сажать в цейхауз, сиречь в смирительный дом, дабы, на таковых смотря, и другие никто таких ослушаниев и упрямств и в сборе подушных денег замешательств и остановки чинить не отваживались; а буде они и тем не учувствуют — платить не станут, таких отправлять в провинциальную канцелярию». Вероятно, расправа господина воеводы была сильнее магистратской расправы. Раскольники, как известно, исполняли подушную повинность по увеличенному окладу. Список им вело ярославское духовное правление, от которого магистрат получал необходимые справки для обложения раскольников этой податью, согласно законам. (Журн. 1756 г., No 260). Раскольники и, вообще, любители старины, сверх означенной подати, платили еще штраф за ношение бород. Можно было предполагать, что при императрице Елизавете бороды и русская народная одежда уже не преследовались, как при ее великом отце; но оказывается, что и в Елизаветинское время бородачи и ненавистники немецкого костюма вызывали на себя кару закона, установленного Петром I. По крайней мере, так было в Ярославле. Сообщаем вполне, без сокращений, относящийся к этому предмету любопытный документ 1756 г.— меморию ярославской провинциальной канцелярии о том, чтобы местный магистрат строго следил за бородачами:
«Понеже во исполнение именных блаженные и высокославные памяти его императорского величества государя Петра Великого и потом в подтверждение состоявшихся и в ярославскую провинциальную канцелярию присланных указов, чтоб всякого чина люди (кроме церковного притча и пашенных крестьян) неуказного платья и бород отнюдь не носили, под опасением положенных за то штрафов, о том в Ярославле многократно указами публиковано и в ярославский магистрат о поимке ходивших в неуказанном платье и бородах многими премориями сообщено. Но и из-за того многие ярославские обыватели мужеска и женска полов, в противность вышеозначенных указов, как не безизвестно, ходят в неуказанном платье, а мужеска полу и бороды носят. Того ради, по указу ее императорского величества, в ярославской провинциальной канцелярии определено: для поимки и приводу в здешнюю провинциальную канцелярию означенных, ходивших (в противность высочайших указов) в неуказанном платье и бородах, к взысканию надлежащих по указам штрафов, определить команду и о поступании в том с крайним прилежанием без всякого упущения (дабы чрез то оное вовсе искоренено быть могло) дать инструкцию с полным наставлением; а в ярославский магистрат о том же исполнении, тако-же ежели кто с бородами и не в указанном платье для чего в тот магистрат придет, — оных о присылке в ярославскую провинциальную канцелярию ко взысканию штрафа, под караулом непременно, еще послать преморию (о чем сия и послана). И ярославский магистрат да благоволит чинить по указам ее величества». (Премория 23 марта 1756 г., No 1178).
Варварский язык этого документа не закрывает, однако, сущности дела. Воевода Иван Шубин-Большой да его товарищ Андрей Турчанинов вздумали поохотиться за бородачами и определили команду, специально назначенную для этой цели; а чтобы лучше достигнуть ее, они обязали и магистрат, если явятся туда бородачи, задерживать их и отправлять на воеводский суд. Такова сущность премории. Магистрат же решил: «Ярославского купечества обывателям обоих полов о неношении русского платья, тако-ж мужеска полу бород, чтоб оные всегда бриты были, чрез сотских всем объявить с подписками. А носили-б указное немецкое платье…» (Журн. магистрата 29 марта 1756 г.; указы сотских NoNo 314 и 323). Неизвестно, удалось ли ярославскому воеводе словить бородачей, остричь их и нарядить в немецкие камзолы; что касается бородачей, живших в других городах и слободах Ярославской провинции, то охота за ними бывала не безуспешная. Так, в Рыбинской слободе (ныне город Рыбинск) {Ныне город Щербаков (прим. ред.).} зараз словили 20 брадоносцев.
Ходить без бороды, нарядившись по заграничной моде, еще не значило сделаться европейцем. Ярославец, вкусивший плоды западной цивилизации, т. е. благодаря портным и местным фигаро, облекший свою плоть в иноземную одежду волей-неволей и лишенный бороды, в действительности оставался человеком XVII столетия со всеми его верованиями и предрассудками. Верил он, как веровали его деды, в могущество тайных, сверхъестественных сил. Колдовство, заговоры, приворотные коренья, разрыв-трава, якобы разбивающая железные замки, цветок папоротника, открывающий в Ивановскую ночь несметные клады, оберегаемые чертями, одним словом, все принадлежности нечистой силы не подлежали для ярославцев Елизаветинского времени ни малейшему сомнению. Суеверие господствовало между ними безгранично. Им были проникнуты не только купцы и посадские, но и люди чиновные: в 1754 году какой-то караульный секретарь Федор Плещеев привлек к суду магистрата ярославского торговца Ивана Зеленщикова, обвинив его в продаже вредных волшебных трав. (Журн. 1754 г., No 61| В том же году ярославец посадский человек Яков Свешников судился за колдовство: с помощью волшебной травы «прыгуна» он хотел найти где-то клад. (Там же, No 654). Судьба Свешникова и Зеленщикова покрыта мраком неизвестности, потому что, упомянув о фактах, наши бумаги не разъясняют их подробно, предоставляя исследователю ярославской старины думать, что как тот, так и другой из названных лиц оказались невинными владельцами не менее их невинных трав петрушки, укропа и т. д. Как бы то ни было, обвинение в колдовстве имело трагические последствия для обвиняемых, которые не избегали пыток, несмотря на очевидную нелепость доноса. Расскажем, кстати, одну историю, достаточно знакомящую нас с приемами юстиции доброго старого времени. Канцелярист ярославского магистрата Василий Сретенский 27 сентября 1756 г. объявил магистратским присутствующим:
— «Жительствующий у меня, из найму, ярославец посадский человек Степан Григорьев сын Старцев, живучи в доме моем, незнамо какими чарованиями и кореньями жительствующую у меня-же, Сретенского, старуху Ульяну, Семенову дочь, испортил…»
— «А сколько лет той старухе, и коим манером сия порча произошла?» — осведомились магистратские члены.
— «Летами она, Ульяна, более девяноста лет, — которую ныне так жестоко ломает, что при том оная на подобие собаки лает, и от великого ломания она состоит уже близ смерти».
— «Винился ли Старцев в том испорчении, и коли винился, то при ком именно?»
— «А в том испорчении он, Старцев, винился мне, Сретенскому, при сотском Дмитревской сотни Якове Баранщикове и при стороже магистратском Николае Белозерове, и извинялся».
— «Коликой-же ради нужды испорчение сие сотворилось?»
— «А видно, что такие вредительные коренья брал он на учинение вреда хозяевам. Чего ради прошу магистрат оного Старцева исследовать: у кого он и какие коренья или иные какие чарования получил, и с каким намерением?»
Магистрат определил: «Оное объявление, записав, отдать в повытье. А объявленного ярославца Степана Старцева в вышеписанном на него в извете показании допросить с обстоятельством {Т. е. прибегнуть, смотря по обстоятельствам дела, к пытке.— Л. Т.}, и на кого он показывать будет, оных, накрепко сыскивая, допрашивать. А буде такие оговорные окажутся не магистратского ведомства, то оных допрашивать при депутате от ярославской провинциальной канцелярии, истребовав его чрез сообщенную в тое канцелярию преморию, и по допросам, расписав по делу и из указов выписав, доложить немедленно». (Журн. 1756 г., No 571). Подписали мудрую резолюцию купцы: бургомистры Дмитрий Холщевников да Козьма Бахтеяров.
Действительно, процессом не замедлили. 5 октября 1756 г., следовательно спустя неделю после доноса, в присутствии тех же бургомистров, да ратмана Кириллы Овсянникова, да товарища воеводы, коллежского асессора Турченинова, был допрошен Тимофей Григорьев Панов, крестьянин князя Михаила Михайловича Щербатова.
Панову объяснили, что он обвиняется в колдовстве.
— «Ты, Панов, портил чародейством жительствующую в услужении у ярославского магистрата канцеляриста Василья Сретенского старуху, девку Ульяну, и для поднесения ей дал зелья посадскому человеку Степану Григорьеву Старцеву?»
— «Не портил я и зельев никому не давал».
— «Откуда ты родом и где жительство имеешь?»
— «Родом я крестьянин вотчины князь Михаила княжь Михайлова сына Щербатова, села Козьмодемьянского; а живу в Ярославле в Стрелецкой слободе у отставного, определенного к Спасову монастырю, солдата Ивана Васильева, сына Партазанова, из найму, по копейке на неделю, другой год».
— «Пашпорт от помещика у тебя имеется ли?»
— «Не имеется, по недальности вотчины. А живу я по письменному виду, данному мне из государственной юстиц-коллегии».
— «Чего ради сим видом ты снабжен? И исправно ли подати платишь?»
— «Когда я содержался и розыскиван был (т. е. подвергнут пыткам) в ярославской провинциальной канцелярии по делу бывшего мануфактурного содержателя Ивана Затрапезнова, то о свободности моей сей вид дан из юстиц-коллегии. А подушные деньги плачу в показанную господина моего вотчину».
— «Ярославца Степана Старцева знаешь ли?»
— «Не знаю и не видал, и кореньев никогда ему не отдавывал, и он у меня их не прашивал. И наговаривать я ни на что не умею и ворожить не знаю. И никого ни сам, ни чрез людей не порчивал, ни сам ни у кого не вораживался, и в какой силе есть ворожейство — сего не знаю…»
Магистрат рассмотрел выданный Панову из государственной юстиц-коллегии «вид»: документ оказался не вполне благонадежным, так как обличал подсудимого в том, что он и прежде, за 14 лет до описываемого дела, судился за волшебство, хотя и был оправдан. Значилось в документе, что в 1742 году Тимофей Панов «дал якобы заговорного коренья содержателю ярославской полотняной фабрики Ивану Затрапезнову, в умысле к смертному убийству; а по следствию того не явилось».
— «Поелику-ли, Панов, чинишь запирательство, то даны будут тебе с показателем Степаном Старцевым очные ставки и в случае на оных запирательства (предупредил магистрат) будешь ты допрашивай с пристрастием«.
— «К волшебству я не причастен!» — утверждал Панов.
— «О сем будут собраны справки от провинциальной канцелярии: в каких приводах и подозрениях, особливо-же по волшебствам, не бывал ли ты…» (Журн. 1756 г., NoNo 571 и 592).
К сожалению, нам не известен конец этой траги-комической истории: документы наши умалчивают о дальнейшей судьбе Панова. Но уже и по началу дела можно с достаточною уверенностью предположить, что он не избег пытки за девяностолетнюю старуху, которая будто бы лаяла по-собачьи, вследствие его богопротивного колдовства…
Вера в чародейство проистекала, разумеется, от страшного, почти поголовного невежества, а оно, в свою очередь, было необходимым последствием того грустного факта, что при императрице Елизавете дело народного образования… не обращало на себя ни малейшего внимания как со стороны правительства, так и со стороны общества. Правда, благодаря одной идеально-прекрасной личности Елизаветинского царствования (И. И. Шувалова), в 1755 году был основан московский университет, однако и он в первое время своего существования походил скорее на плохо устроенную начальную школу, чем на высшее учебное заведение. Вопрос, предложенный воспитанникам университетской гимназии: «куда впадает Волга», вызвал такие ответы: «в Черное море!», «в Белое море!» Будущий же каратель русского невежества и творец «Недоросля» отвечал: «не знаю!» с таким видом добродушия, что экзаминаторы единогласно присудили ему золотую медаль {Соч. Фонвизина. СПБ. 1866 г., стр. 534.}. Вероятно, не достало бы русского золота, если б медали выдавались за подобные ответы, всем ярославским Митрофанушкам. Для ярославцев особенно любопытно предание о том, что Фонвизин срисовал тип Митрофанушки, — личность не карикатурную, как полагают некоторые, а действительно существовавшую, — с барчука, обитавшего близ Ярославля. Предание награждает Митрофанушкою две фамилии: Мустафиных и Долгово-Сабуровых. Даже указывали нам селения, где жил знаменитый Митрофан Простаков, окруженный Вральманом, Кутейкиным, Цифиркиным и нянюшкой Еремеевной. Во всяком случае, по поводу места рождения Митрофанушки трудно ожидать возникновения между селениями Ярославской губернии такого горячего спора, какой происходил между греческими городами по вопросу о том, где родился Гомер {В «Иллюстрации» (1861 г., No 158) Петербургский Старожил утверждает, что оригиналом Митрофанушки был Алексей Николаевич Оленин, президент академии наук и известный меценат Александровского времени, который, будто бы, прочитав «Недоросля», принялся за ученье, бросил голубятню и страсть к бездельничанью. Насколько это верно, и возможно ли перерождение Митрофанушки в такого образованного человека, каким был Оленин, предоставим решить самому г. Петербургскому Старожилу, который подарил русскую литературу хотя и любопытными, но по большей части сомнительными «Воспоминаниями». Пребывание же Фонвизина в Ярославской губернии доказывается документами, хранящимися в подростовском селе Угодичах, о чем писал Лествицын в «Яросл. губ. ведомостях».— Л. Т.}. Могут возразить нам, что Митрофанушка — современник Екатерины II, а не императрицы Елизаветы. Но если даже в царствование Екатерины… ярославская почва держала на себе тяжелую ношу Митрофанушек и Скотининых, то спрашивается, сколько же их существовало раньше при Елизавете? Имя их — легион. В Елизаветинское время ярославская провинция имела только один рассадник науки, духовную семинарию, которая была переведена в 1749 г. митрополитом Арсением Мацеевичем из Ростова в Ярославль. Семинария давала образование детям белого духовенства, образование очень скудное, сухое, схоластическое; молодое же ярославское дворянство средней руки поступало (в редких, наиболее счастливых случаях) в шляхетский корпус, основанный императрицею Анной Иоанновной, или же воспитывалось дома, под указкой грамотея-дьячка вроде Брудастого, описанного Даниловым {Записки Данилова.— Л. Т.}; или же, наконец, во мраке пошехонских лесов и на волжском широком раздолье и приволье учились, вернее сказать, откармливались Митрофанушки Простаковы. Последнее бывало чаще. Затем сыновья ярославских купцов, ярославских посадских людей учились на медный грош у духовенства, чаще у раскольников-грамотеев; ярославское же крестьянство было лишено и этой ничтожной доли образования. В руках пишущего эти строки много любопытных материалов для истории училищ Ярославской губернии в начале царствования Екатерины И. Оказывается, что предшествовавшая этому царствованию Елизаветинская эпоха оставила после себя в деле народного образования самые горькие плоды: не было учителей, пригласили грамотеев дьячков, но сии менторы умели только писать и читать, да и то с грехом пополам. Никто из них не знал первых четырех правил арифметики. Злодейская таблица умножения была для ярославских педагогов камнем преткновения… Утешительно, по крайней мере, то, что архивные документы Екатерининского царствования изобилуют благородными словами: наука, училище, образование и т. д. Но исследователь ярославской старины тщетно стал бы искать этих слов в документах Елизаветинского времени: при составлении настоящей статьи нам пришлось внимательно прочитать громадное количество бумаг, и ни в одной из них мы не встретили означенных слов. Старательно ищешь их и не находишь. Зато попадаются курьезные сведения, что ярославскому купечеству, которое нуждалось в хорошей азбуке и не имело ее, поставлено было в обязанность выписать какой-то «Савариев лексикон», стоивший 8 руб. 53 коп. за экземпляр: сумма немаловажная для наших прадедов. Вот ярославцы и получили сей лексикон, да и спрятали его в магистратскую кладовую, а денежки, рублей сотню, все-таки пришлось заплатить. (Журн. Яросл. магистр. 1755 г., No 824 и 1760 г., No 448). Встречается и другой странный факт: ярославский купец, Дмитрий Соколов, владел библиотекой, состоявшею из немецких книг. Библиотека назначена была в продажу с публичного торгу, но желающих купить ее не явилось. (Журн. 1755 г., No 665). Знал ли Соколов по-немецки, или немецкие книги очутились у него случайно? Если Соколов и представлял собою счастливое исключение из массы своих невежественных родичей, то единственный факт не может служить опровержением наших доводов о нерасположенности ярославцев к образованию вообще, тем более к изучению иностранных литератур, с которыми не был знаком даже писатель-ярославец, Василий Иванович Майков, автор известной юмористической поэмы «Елисей, или раздраженный Вакх».
Майков родился в 1728 году. Детство свое он провел в отцовском поместье, близ Ярославля. 14 лет он поступил на службу в лейб-гвардии Семеновский полк; но вскоре его отпустили домой к родителям, «для наук», на 4 года. Родители, взявшие к себе детей, записанных в полк, обязаны были обучать их множеству наук: арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии, инженерному искусству и т. д., кроме того, иностранным языкам; на самом же деле молодые дворяне ничему не учились, или же, как и наш ярославец Майков, получали «пристойное воспитание, ограниченное чтением священных книг и нравственными наставлениями». Иначе сказать, В. И. Майков не возвышался над часословом и псалтырью. У тогдашних учителей немногому можно было научиться, притом же обучение сопровождалось или крайне суровою дисциплиной, или совершенным баловством. Что обучение Майкова, сына состоятельного помещика, было весьма ограниченное, видно из того, что он вовсе не знал иностранных языков {Прекрасно составленная биография Майкова, из которой мы заимствуем эти подробности, принадлежит перу одного из его потомков Л. Н. Майкову. («Русские писатели». Соч. и перев. В. И. Майкова, изд. 1867 г. под редакцией П. А. Ефремова).— Л. Т.}. Впрочем, по мнению биографа Майкова, отсутствие иностранных учителей, домашнее воспитание по церковным книгам и самая семейная патриархальная обстановка имели для нашего писателя свою выгодную сторону: они познакомили его, по крайней мере, с русской действительностью, с бытом народным. Это отразилось и в сочинениях Майкова, который принадлежит к числу второстепенных, но зато наиболее народных писателей. Отец его, живя в окрестностях Ярославля, покровительствовал Федору Григорьевичу Волкову, незабвенному основателю русского театра. Знакомство с Волковым, а через него с театральным миром, конечно, влияло на молодого Майкова, и он — дитя Елизаветинского времени — впоследствии, при Екатерине, явился честным литературным деятелем, дополнив недостатки своего домашнего воспитания личным трудом, самообразованием. То же следует сказать о современнике Майкова, другом писателе-ярославце князе Мих. Щербатове; и он получил очень ограниченное образование; но, несмотря на то, сумел развить себя до глубокого исторического понимания своей эпохи, которая была весьма строго оценена им в известном сочинении: «О повреждении нравов в России»… На Щербатове все-таки остановимся с удовольствием, изучая это время, потому что оно слишком бедно почтенными личностями, потому что, вместо их, пред нашими глазами, длинною вереницей идут мрачные тени забитых, униженных, оскорбленных людей, или же людей, которые унижали и оскорбляли других нравственно и физически, — бить нещадно, бить кнутом, бить плетьми, — вот выражения, которые встречаются почти на каждой странице истории Елизаветинского царствования.
Для полноты картины- ярославского общества в половине XVIII века теперь и нам предстоит обратиться к этим страшным фактам. Возглас: «Слово и дело!» часто раздавался на ярославских улицах и площадях, а за ним, как необходимое его последствие, столь же часто раздавался свист кнута и плетей, заглушая стоны и вопли жертв тогдашней юстиции…
II
Ябедничество.— Слово и дело.— Наказание за «непорядочные поступки».— Раздача порук.— Орудия пытки.— Палач.— Медленное решение уголовных дел.— Быт колодников.— Пьянство и лаяние.— История одной пьяной бабы.— Корчмари.— Злодеяния сыщика, купца Сушина.— Драки и кулачные бои.— Семейный деспотизм.— Очерк ярославской торговли до императрицы Елизаветы.— Презент ярославцев за уничтожение внутренних таможен.— Разные стеснения торговли.— Банковые операции.— Приданое богатой купчихи.— Воевода Павлов.— История с белорыбицей.— Полициймейстер Кашинцев.— Ф. Г. Волков.
Тревожное, ненормальное состояние общества вызывает неминуемо массу людей, пользующихся этим состоянием для своих неблаговидных целей. Являются десятки, сотни доносчиков, кляузников. Так было и в Ярославле, при Елизавете. Ябедничество процветало здесь до крайней степени, внося разлад не только в общественную, но и в семейную жизнь: обменивались доносами бывшие друзья, товарищи, кровные родственники. Оказывалось выгодным предупредить своего соперника, т. е. раньше его забежать в магистрат или к господину воеводе с челобитием, с кляузным прошением. Пословица, гласящая: «доносчику первый кнут», не всегда применялась к делу, потому что первый удар доставался все-таки лицу обвиняемому, а потом уже, «для изыскания истины», заплечный мастер сводил тяжелое знакомство и с доносчиком, если последний сам запутывался в своих показаниях, или не успевал прилично ублаготворить кого подобало. Даже прекрасная половина рода человеческого любила посутяжничать. В магистратских делах встречаются, например, такие милые характеристики ярославских дам: «Сия Авдотья Ильина Карпачева есть несносная ябедница, пьяница и записная кляузница». (Журн. 1760 г., No 262). Понятно и без объяснения, что подобные госпоже Карпачевой особы сочиняли доносы, сравнительно, очень невинные, напоминавшие своим стилем и содержанием бессмертные прошения, которыми обменивались в миргородском уездном суде Иван Иванович Перерепенко и Иван Никифорович Довгочхун. Другие же доносы были поважнее.
Обвинение в том или другом уголовном преступлении, а тем более в нарушении полицейских уставов, конечно, мало значило перед обвинением в преступлении государственном. Это последнее обвинение выражалось лишь тремя словами, но от них стынула кровь в жилах наших предков, они заставляли бледнеть и дрожать самого бесстрашного человека, потому что неминуемо влекли его в застенок, обрекали на жестокие страдания.
Мы разумеем известную формулу, известный возглас: «Слово и дело!».
Кто «выкрикивал» эти слова, того немедленно хватали и тащили к воеводе, ибо «крикун» должен был обвинить кого-нибудь в государственном преступлении, а за обвинением, хотя бы оно и являлось очевидной нелепостью и клеветой, все-таки неизбежно следовала пытка, которой подвергались обе стороны, т. е. обвинитель и обвиняемый. Ярославские крикуны, разумеется, всегда оказывались клеветниками: город Ярославль, при Елизавете, был совершенно безгрешен и благонадежен в политическом отношении; государственных злодеев в нем не существовало ни одного. За бездоказательность «слова и дела» наказание повторялось. Спрашивается: какая же радость была побывать в руках заплечного мастера? Из документов видно, что многие ярославцы губили себя под влиянием мести, ожесточения, надеясь одновременно погубить и своих супротивников. Этим обстоятельством, да еще пьянством, а главное — ужасами тюремной жизни, только и можно объяснить причину частого выкрикивания: «слово и дело!» Арестант, желавший поскорее вырваться из душной, холодной тюрьмы, кричал. Его пытали. Оказывалось, что он взвел на себя небылицу, что он не ведает никакого «слова и дела государева». Результатом были плети и, часто, сдача в солдаты, следовательно — сравнительно с тюрьмою все-таки свобода, которая притом не исключала возможности бежать из полка, достигнуть полной волюшки, погулять на русском раздолье. Утечка из острога была труднее дезертирства…
И вот ярославцы, пьяные и трезвые, острожники и свободные, кричат: «Слово и дело государево!»
Кричит посадский Федор Лобашков. Его секут, допрашивают: «Зачем кричал?» — «Пьян был, воевода милостивый!» — Воевода благодушно повторяет экзекуцию и даже (случай редкий) не сдает крикуна под красную шапку, ограничивается отсылкою его в магистрат — пусть распорядится с Лобашковым, как хочет. Магистрат со своей стороны прощает крикуна, решивши так: «взять с него подписку, чтобы впредь не пьянствовал и никаких непотребств отнюдь не чинил, под опасением наистрожайшего штрафа».
Кричит колодник, ярославец Лев Истомин, ради скуки и тоски острожной: бит плетьми, вместо кнута, ибо воевода и над ним сжалился.
Кричит на Чортовом мосту {Название характеристичное! Где именно находился ярославский Чортов мост, не знаем. Нам не случалось слышать о нем никоих преданий.— Л. Т.} ямщик Иван Степанов, «пьяный зело»: бит плетьми.
Кричит посадский Иван Подошевников: бит плетьми и сдан магистратом в солдаты «за доброе ярославское купечество».
Кричит посадский Иван Коптев: бит плетьми, но в солдаты не попал.
Кричит посадский Григорий Кузнецов: плети и ссылка. Магистрат не пожелал принять его в ярославский посад, объявивши воеводе: «А ежели оный Кузнецов будет подлежателен к свободе, то его магистрат, попрежнему, в посад принять не желает, ибо он, по неспокойному его житию, в ярославском посаде быть не способен, и для того с ним, Кузнецовым, благоволено бы учинить по законам». Вероятно, этот крикун не годился в рекруты за доброе купечество, которое, как сейчас мы видели, принимало посадских, битых плетьми за «слово и дело», с тем, чтобы сдать их потом в солдаты. По тогдашним взглядам на человеческое достоинство, плеть не унижала, а только исправляла людей.
Вообще, ярославцы смотрели на плеть как-то нежно, благодушно, считая ее орудием очень легким, каким она и была действительно— по сравнению с кнутом: кнута наши предки страшно боялись. Магистратские присутствующие секли плетьми худородных, т. е. посадских людей (разумеется, не собственноручно), даже не вменяя себе в обязанность мотивировать сколько-нибудь точно это наказание. Вот, например, лаконическое определение магистрата, внесенное в субботний журнал 10 июня 1760 года: «При оном присутствии посадскому человеку Федору Гарусникову, за непорядочные поступки, учинено наказание плетьми». В чем состояли «непорядочные поступки» злополучного Гарусникова: нагрубил ли он купеческим тузам, пьянствовал ли (по выражению тогдашнего времени) «с великим неистовством и весьма озорнически», или бедняк пострадал так себе, ради субботы, подобно школьникам, которые ложились под розги каждый субботний день не за вину, а по обычаю, установленному педагогами доброго старого времени?— неизвестно.
Женщины так же, как и мужчины, не были избавлены от кнута. Например, мы видим из магистратских дел, что дочь ярославца, посадского человека, Домна Кобелева, после трех пыток, повинилась, первое, в бегстве с фабрики купца Алексея Затрапезнова и, второе, в краже, за что и была наказана кнутом, а потом отдана своему мужу «с поруками, чтобы впредь не воровать». (Журн. 1756 г., No 327). Вообще «поруки» составляли, так сказать, последний якорь надежды для подсудимых, если у них отыскивались благодетели; надежные поручители спасали своих клиентов от каторги, ибо битье кнутом не влекло за собой, как это было установлено впоследствии, непременной ссылки в каторжные работы. Так, в 1759 году ярославская провинциальная канцелярия, наказав кнутом, за воровство, посадского Андрея Кононькова, отослала его в магистрат; последний же отдал вора на поруки с обязательством, чтобы он «впредь не воровал и никаких непотребств не чинил». Впрочем, магистрат (нужно сказать к его чести) отдавал «шельмованных людей» на поруки с большой разборчивостью, только в тех случаях, когда надеялся, что эти люди способны исправиться, или когда усматривал, что совершенное ими преступление незначительно и, в интересах человеколюбия и правосудия, не должно быть наказано ссылкой на каторжные работы. Слишком щедрая раздача порук имела бы печальные последствия: такие индульгенции не всегда исправляли ярославских грешников. Один из них, битый кнутом, т. е. «шельмованный человек», посадский Иван Плохов учинил в ноябре 1756 года следующее: встретил он на улице посадского Ивана Перевощикова, сорвал с него шапку и бросился бежать в харчевню: владелец шапки стал догонять его, «но сей шельмованный человек, оборотись, ударил реченного Перевощикова палкой в правый глаз и вышиб оный, а потом, сшибши с ног, бил и увечил немилостиво, от которых бесчеловечных побой Иван Перевощиков, лежавши при смерти, умре». (Журн. 1756 г., No 654). Такие кровавые подвиги шельмованных людей, совершаемые при том нагло, среди белого дня, конечно, оправдывают осторожность ярославского магистрата в утверждении порук.
Плети и другие орудия, употреблявшиеся «для расспрашивания под пристрастием», магистрат обязан был иметь всегда наготове; от него требовали их разные, командированные в Ярославль, по служебным делам, чиновники, офицеры, следственные комиссии и проч. Так, например, комиссия по искоренению кормчества, особенно часто прибегавшая к пыткам, вытребовала из магистрата «две плети да три кольца с ремнями». (Журн. 1755 г., No 77). Другие требования ограничивались только доставкою плетей. Назначение колец с ремнями понятно: эти милые вещицы держали на себе наших предков в те, злополучные для них, часы, когда они «висели на дыбах», терпя удары заплечного мастера. Сам заплечный мастер (палач) составлял также натуральную повинность города Ярославля. В 1754 году явилась в палаче «большая нужда». Посадский Федор Аристов заявил готовность принять на себя эту проклятую, отвратительную, хотя и выгодную, в денежном отношении, должность. Подати за него возложены были на ярославское купечество. (Журн. 27 марта 1754 г., No 381). Палач получал солдатское жалованье. (Журн. 1755 г, No 421).
Составляя весьма значительное колесо в убийственном механизме юстиции XVIII века, палач уступал, однако, другим колесам того же механизма, повидимому, ничтожным, но в действительности очень важным: мы разумеем приказных. От палача зависело усилить или облегчить физическую боль; от усмотрения приказных зависело большее или меньшее томление подсудимых в остроге. Уголовные дела ярославский магистрат решал медленно, вяло, с неохотой, с каким-то злорадством над печальною Долей узников. Еще медленнее приводились в исполнение магистратские решения, — и по какой причине! Приказные утверждали, что в магистрате «не обретается» некоторых законов, подходивших к данным случаям. Высшее правительство часто посылало грозные ордеры о скорейшем решении колодничьих дел, но мелкая приказная братия тормозила их, запутывала и усложняла. Бургомистр и ратманы говорили приказным: «Ох, братцы! кончайте скорей, чтобы не нажить конфузии и жестокого штрафования из Санкт-Петербурга». Приказные же отвечали: «Рады бы стараться, да подобающих указов не успели обрести». В 1760 году канцелярист Василий Сретенский докладывал магистратским господам присутствующим: «Некоторые смертоубийственные дела следствием и розысками, (т. е. пытками) окончились, и к решению тех дел обстоятельные выписи сочинены; да нужно подвести законы о наказании убийц, взамен смертной казни, ссылкою в Рогервик, а сих законов в магистрате Ярославском нет». Наконец, тот же канцелярист вспомнил, что ярославская провинциальная канцелярия часто ссылает преступников в Рогервик на каторгу, следовательно имеет «нужные» законы, — и таковые были вытребованы оттуда, и Сретенский подвел статьи, а господа присутствующие руки приложили. (Журн. 1760 г., No 595). Те же «господа», следуя влечению доброго русского сердца, освобождали маловажных преступников на время, «под поруки, для высокоторжественного праздника св. Пасхи». Впрочем, эта льгота была оказываема только тем лицам, которые, повторяем, сидели в колоднической будке за незначительные провинности. Что касается «душегубцев» и вообще «сильных злодеев», то, понятно, они проводили и пасху за железной решеткой; тогда надзор за душегубцами еще значительно увеличивался, ввиду повального пьянства, которым сопровождалась в тюрьмах Елизаветинского времени вся пасхальная неделя. Мелкая канцелярская, братия (копиисты и писчики) обязана была магистратским начальством «иметь над оными колодниками крепкое содержание, не допуская ни до каких непристойностей, особливо же пьянства и зерни». (Журн. 1760 г., No 222). Кроме приказных низкого ранга, при магистратской тюрьме находились другие караульщики — солдаты; но как первых, так и вторых бывало недостаточно, вследствие значительного скопления арестантов. Так, в 1756 году ярославский магистрат усмотрел необходимость собрать временную стражу из посадских людей, опасаясь, «дабы в креминальных делах не последовало от колодников утечки и от того магистрату не понесть-бы ответу». (Журн. 1756 г., No 86).
Окруженные стражей, гремя цепями, колодники ходили по ярославским улицам, выпрашивая милостыню у сердобольных людей. Печальная доля «несчастненьких» (так трогательно-поэтически называет их русский народ) усложнялась много еще одним обстоятельством, о котором мы имели уже случай упомянуть в начале нашей статьи, именно — заключением вместе с умалишенными. Ярославская юстиция смотрела на «безумцев», как на преступников. Собрание действительных злодеев, людей неповинно обвиняемых и, затем, людей умалишенных представляло собою ужасное зрелище, — нечто похожее на дантовский ад! Надзор за этим адом, конечно, был труден для караульщиков, которые постоянно рисковали попасть «под истязание» за вины своей многолюдной и бурной паствы. Приводим, для примера, донесение «дневального» Федора Некрасова: «Сего генваря пятого числа (1756 года), по утру, при выпуске из магистратской будки колодников, для прошения милостыни, оказалось, что содержащийся в той будке ярославец, Федор Деулин, в шутках бросил шапкою в колодника, кой почасту бывает в безумии, Ивана Крылатского, коя (шапка) ненарочным случаем попала в образ, который от того упал на объявленного Крылатского, а тот взял и расколол его на две части». Дневальный умолял магистрат, «дабы ему, Некрасову, не последовало какого-либо ответу и истязания». (Журн. 1756 г., No 12). Последняя фраза дает нам основание думать, что магистрат наказывал приставленную к колодникам стражу в случаях, подобных описанному, — а они, без сомнения, бывали часто: сумасшедшие арестанты могли, в гневные минуты, разбивать не только иконы, но и людей, своих товарищей по заключению.
Жаловаться на адскую жизнь арестанты, конечно, имели возможность и право; для этого существовали высшие инстанции, столичное начальство; но челобитья, стоившие довольно дорого, редко имели успех и мало приносили пользы, уже по одному тому, что перевод в тюрьму соседнего города не улучшал материального положения арестанта: все острожные будки были одинаково плохи. Гораздо выгоднее было для подсудимых, прежде чем они попадали в эти будки, выхлопотать у начальства перевод в магистрат соседнего провинциального города; судили мягче, беспристрастнее. Так, ростовцы судились в Ярославле (журн. 1760 г., No 235), и наоборот, ярославцы искали суда в Ростове. Перевод колоднических дел из одного магистрата в другой совершался не иначе, как по указу главного магистрата.
Страдая от кляузников, терпя невзгоду от военщины, духовного начальства и своего городского сословного суда, подчиняясь (как вскоре увидим) жестокостям полиции, — ярославец Елизаветинского времени нуждался в какой-нибудь радости, в забвении своего лютого, отчаянного горя, и топил его — в чарке зелена вина.
…Однажды в лавку ярославского купца Петра Крохо-няткина пришел знакомый ему крестьянин Николай Осетров, которого, по дружбе, а вместе с тем и «по секрету», гостеприимный и несколько выпивший Крохоняткин угостил водкой тут же, в лавке, и сам знатно угостился. Затем явилась в лавку жена Осетрова, Дарья Васильевна: и ее не обнесли чаркой, так что «оная жена, будучи чрезвычайно пьян»а, не могла уже из той лавки выдти». Так и свалилась на месте, уснула мертвым сном. Муж бабы и говорит Крохоняткину:
— «Не тронь ее, пусть проспится на холодку…»
— «Не зазябла бы? — соболезновал Крохоняткин.— Теперь зима, люто — холодно».
— «Ничего! — уверял Осетров.— Дело привычное, баба здоровая…»
Крохоняткин согласился, запер пьяную бабу в лавке и ушел домой, пригласивши к себе Осетрова поужинать, чем бог послал. Кончив трапезу, они хотели было освободить Дарью, но оказалось, что хмель не вышел еще у ней из головы, а потому Дарью опять оставили «на холодку», сами же занялись дружескою беседой. В 3 часа за полночь приятелям вторично пришло на ум осведомиться, что творит Дарья, «не учинилось ли ей какого-либо дурна?» К несчастью, Крохоняткин потерял дорогой ключ от лавки, где сидела и дрожала озябнувшая до полусмерти баба. Слезно вопила она: «Ох, выпустите меня, отбейте замок, коли потеряли ключ! Не то помру!» Так было и хотел учинить Крохоняткин, да вдруг, на грех, явились лавочные сторожа и не допустили сбить замок под тем резоном, что творить такой казус ночью весьма не пригоже, хотя бы и в своей лавке; на это есть белый день, следует дождаться утра. Вот, когда настало утро, собрались «рядовичи», и, при общем их смехе, несчастная окоченевшая пьяница вышла из плена. Крохоняткину же было не до смеха: его вместе с Осетровым, поволокли в магистрат, «дабы учинить по законам ее императорского величества». Магистрат немедленно отправил Осетровых к помещику Бахметьеву на расправу, за пьянство, а Крохоняткина, заключив в колодническую будку, стал судить и присудил так:
«Ярославцу Петру Крохоняткину, за пьянство (в чем он и сам в допросе своем винился), а паче за имение того пьянства в лавке своей, яко не в подлежащем месте, и за оставление в той лавке вышеписанной пьяной женки ночевать (от чего при нынешнем зимнем времени могла оная женка, озябнув, придти в повреждение), на страх ему, Крохоняткину, и другим, дабы, на то смотря, впредь таковых пьянств и непорядков чинить не дерзали, учинить ему, Крохоняткину, нещадное наказание плетьми«.
Вытерпев экзекуцию, Крохоняткин поступил на поруки, и с него взяты были еще казенные пошлины за производство злополучного дела о женке Дарье Осетровой, упившейся в лавке. (Журн. 1754 г., NoNo 61 и 77). Что же учинил дворянин Бахметьев с этой «женкой» и ее мужем, история умалчивает.
Как видно из нашего рассказа, нещадное наказание плетьми, испытанное Крохоняткиным, было мотивировано, во-первых, тем, что сей преступник дерзнул запереть пьяную бабу, рискуя заморозить ее, во-вторых, и это главное, тем, что он пьянствовал в лавке, т. е. по строгому взгляду закона, учинился корчмарем; в Елизаветинское же время корчемство преследовалось с удивительною энергией, неуклонно и постоянно. Впрочем, из Крохоняткина сделали корчмаря с большой натяжкой: он не продавал вино, а только угощал им своих приятелей. Настоящих, действительных корчмарей били не плетьми: они попадали в Руки палача, и в таких случаях он «кнутобойничал по маленьку», как выражался о себе печальной памяти Шешковский… Наказание ужасное! Но тайная, незаконная продажа вина была слишком соблазнительна по тем выгодам, которые она доставляла корчмарям. Даже кнут не пугал их. Десятки, сотни людей выносили на своих плечах страшные удары заплечного мастера, и все-таки не покидали опасной торговли вином, помимо царевых кабаков.
Такою торговлей в своих домах занимались преимущественно люди небогатые, посадские голыши, но и купцы делали то же самое, за что и они терпели кнут. Так, например, им высечен был «за троекратное кормчество» состоятельный ярославский купец Борис Бахтеаров. Наказание учинила государственная камер-коллегия, после чего она выдала Бахтеарову паспорт на свободный проезд из Петербурга в Ярославль. (Журн. 1760 г., No 526). Многие семейства страдали, вследствие доносов сыщиков, по делам о тайной продаже вина. Самым грозным сыщиком в Ярославле был купец Григорий Сушин, который, по свидетельству наших документов, каждому встречному и поперечному «желал проломить голову». (Журн. 1757 г. No 26). От желания до исполнения у зверей, подобных Сушину, только один шаг. Сушин был именно зверь, кровожадный, бешеный зверь. Он вторгался в дома частных людей, заподозренных им в корчемстве, наносил побои, ломал головы, заковывал в цепи, морил даже детей и женщин в душной тюрьме, носившей название «конской избы».
Расскажем о некоторых злодеяниях названного сыщика, который, без сомнения, вел хлеб-соль с наиболее влиятельными персонами, иначе его укротили бы скоро и строго.
Однажды Сушин посадил в «конскую избу» двадцать человек. Были тут мужчины, женщины и дети, т. е. поголовно целые семейства. Спаслись только те, которые успели спрятаться. В числе их была одиннадцатилетняя девочка, дочь купца Шапошникова, явившаяся в магистрат с жалобой на Сушина. Трогательно-простодушный рассказ ребенка записан магистратом так: «В оное присутствие впущена была ярославского купца Ивана Прокофьева сына Шапошникова малолетняя дочь его Прасковья Ивановна и пред присутствием объявила: сего-де октября 24 дня (1760 г.) купец Григорий Сушин, со многим числом незнаемых людей, усиленным образом ворвавшись во двор и войдя в хоромы, показанного отца ее без всякого резону с великим шумством вытащил и, отведши, посадил под крепкий караул, сделанный им, Сушиным, в будке, где он (Шапошников) и поныне в той будке содержится. От которого-де великого и внезапного страху она, Прасковья, будучи одна в хоромах, едва могла придти в прежнее чувство и память. И что в такой нечаянной тревоге в доме отца ее не учинилось ли какого похищения, того она в соучинившемся с нею беспамятстве, без отца своего, рассмотреть не может… Рассуждено: об оном, за малолетством ее, записать сим журналом», и проч. Магистрат доносил петербургскому начальству о бесчинствах Сушина; но последний, опираясь на могучую руку своих патронов, в числе которых был миллионер Затрапезнов, и слышать не хотел о пощаде, об освобождении захваченных им людей, напротив, усиливал свои злодеяния. В магистрат посыпались челобитья, одно другого жалобнее, одно другого возмутительнее по заключавшимся в них подробностям о бесчеловечии Сушина. Например, из челобитья двух «посадских женок» Анны Сальниковой и Дарьи Хорхориной узнаем, какую участь терпели их сыновья: Федор — 10-ти лет и Николай — 12-ти лет. Умоляя магистрат отпустить на свободу детей, бедные матери писали следующее: «От завсегдашних в той будке угаров, и по великой тесноте, и от нестерпимой духоты, лежат оные дети наши присмерти, головною болезнью весьма больны. А нам, матерям, в тое будку к ним, кроме того, что под окошко, не токмо до болезни наших детей, но и ныне во время смертельной болезни отнюдь не допускают. От сего нам, яко матерям, к детям содержится крайняя жалость в том, что те наши дети, находясь в такой тяжкой болезни, да еще будучи в той будке без всякого призрения и за недопущением нас к тому призрению, могут помереть безвременно». Магистратская канцелярия имела черствое сердце; она, как выше замечено, тормозила арестантские дела, затягивала их, усложняла. Но к чести приказных, на этот раз и у них шевельнулось в душе чувство любви к неповинным детям, которые умирали в «конской избе». Господа приказные живо настрочили к господину лекарю Гове промеморию, чтобы он освидетельствовал детей арестантов. И Гове в свою очередь растрогался. Ему, находившемуся почти постоянно при особе герцога Бирона, который любил комфорт, — ему было страшно заглянуть в логовище, где сидели десятилетние «корчмари», умиравшие от тифа. Составленное лекарем Гове описание «конской избы» поразительно. Немец откровенно сообщил магистрату, что арестованные купцом Сушиным люди как взрослые, так и дети, все поголовно рискуют прекратить свой живот горячкою, если в скором времени не будет дана им свобода, если их не выпустят на чистый воздух. (Журн. 1760 г., NoNo 653, 654, 661, 689 и 691). Не ведаем, какая судьба постигла заключенников. Знаем только, что немец-лекарь посердобольничал, что магистрат вновь жаловался своему начальству на Сушина, припомнив кстати и другие «неистовства сего человека». Сушин руководствовался правилом круговой поруки: сын должен отвечать за отца, жена за мужа и т. д. Посадская жена Анна Ивановна Гашукова была подвергнута истязаниям за то, что. ее муж — корчмарь успел куда-то скрыться. Гашукову потащили в «конскую избу…»
— «Там мы прикуем тебя цепью к стене»! — грозили Сушин и его служители.
— «Да за что же? — за что же? — вопила оная женка.— Чем я провинилась?»
— «Виноват муж твой, а его нет в Ярославле, за сие казнись!» — отвечали обидчики.
Впрочем, Гашукову «отбил народ». (Журн., 1756 г., No 301). Цепи не были надеты на нее. Другие же, менее счастливые, испытали это удовольствие. Например, посадский Иван Степанов Бабушкин изъяснил в своем челобитье, что Григорий Сушин «приковал его к стене и держал так тирански на цепи целые сутки». (Журн. 1757 г., стр. 362, на обор.). Купец Николай Андреев Дьяконов взыскивал с брата Сушина, Ефима, по векселю 50 рублей. Ефим обратился за помощью к Григорию, а тот, недолго думая, с помощью своей челяди, затащил кредитора в «конскую избу» и стал требовать, чтобы Дьяконов простил долг. Затем, вследствие отказа, Сушин посадил Дьяконова «в цепь с великим стулом», у которой (цепи) была дужка весьма непространная, так что едва не задавил; а притом, усильным образом устращивая, требовал с него векселя в 30 рублев, а без того не хотел отпустить». Несчастный Дьяконов во время этих пыток имел при себе значительную сумму, тоже в векселях, и, боясь, что их у него отнимут, «а такожде смерти опасаясь», подписал вексель; «после чего от такового необыкновенного мучительства и был освобожден». (Челобитье Дьяконова в журн. 2 апреля 1756 г., No 246) {Подобным образом купец Иван Афанасьев Мушников «вымучил» вексель на 20 рублей у купца Ивана Андреева Пищальникова. (Журн. 1760 г., No 201).}.
Кажется, приведенных фактов вполне достаточно для оправдания нашего мнения, что ярославцы управлялись между собою только силою кулака. Кулачное право здесь процветало. Даже ярославское духовенство испытывало свои богатырские силы в драках. Так, в 1760 году поп Козьмодемьянской церкви Никита Иванов вкупе с дьяконом Иваном Прокофьевым «нанесли побои» одному из солдат, состоявших при Бироне, именно лейб-гвардейцу Семеновского полка Тимофею Тумилову, да его дворовому человеку Степану Степанову. (Журн. 1760 г., No 164). Самые удовольствия и забавы ярославцев отличались диким разгулом. Кулачный бой составлял любимую потеху. Громкою славой «бойцов и драчунов» пользовались особенно торговцы Маурины, Василий Кондратьев и сын его Иван. (Журн. 1755 г., No 939). Может быть, эти торговцы не уступили бы и лермонтовскому Калашникову. Но поэтический Калашников, «молодой купец, удалой боец Степан Парамонович», убил своего врага, злодея опричника, за оскорбленную честь жены, — а наши ярославские Калашниковы убивали друг друга так себе, «шутя, ради потехи», чтобы испробовать силу богатырскую. Такими богатырями являются, по нашим документам, посадские Василий Лавров да Федор Деулин, убившие «кулаками, безо всякого оружия» своего соседа Якима Сальникова. Сначала убийцы чинили запирательство, но потом, не стерпев первых пыток, объявили магистрату, что грех случился от шутки: «толкали-де мы, шутя, оного Сальникова кулаками, а умыслу к убийству его отнюдь не имели, и злобы никакой у нас на него ни в чем не бывало». Однако магистрат не удовольствовался одною пыткой: он повторил ее.
«Понеже (читаем в магистратском журнале) вы, Лавров и Деулин, в толкании умершего ярославца Якима Сальникова запирались, а потом уже с допросу под плетьми в том извинялись, того ради в подтверждение, надлежит расспросить вас еще с пристрастием двоекратно, под жестоким плетьми битием». (Журн. 1760 г., No 202).
Таким образом, кулачные бойцы дорого поплатились за свою шутку: секли их три раза. Но счастливый, т. е. одобрительный, повальный, отзыв спас от кнута и каторги Деулина и Лаврова, жителей Тверицкой слободы, которая в настоящее время составляет скромнейший уголок Ярославля, тогда как население ее, при Елизавете, отличалось разгулом и буйством. Особенно яростно бились тверичане в страдное время, на сенокосах. Они сражались тогда уже не на кулачках, а побивали один другого звонкими, острыми косами. (Журн. 1757 г., No 418).
Дикари, кулачные бойцы, конечно, и в семейном быту не могли удержать себя от кровавых «поучений», направленных против домочадцев вообще, преимущественно же против жен, которым после частого повторения сих «поучений» оставалось одно спасение — утечка. Избитые, истерзанные жены утекали, куда глаза глядят. Если б мы захотели утомить внимание читателя поименным списком беглянок, — список занял бы не один десяток строк. Осиротевшие супруги подавали в магистрат явки: сбежала-де женка, а куда — неведомо. Тем дело и кончалось. Ярославцу, человеку торговому, гораздо тяжелее было потерять капитал, чем спутницу жизни, на которую он смотрел, как на дешевый товар или как на свою рабу. Сам раб… мог ли он думать и поступать иначе, он умел только холопствовать перед сильными, угнетать слабых, предаваться разгулу и наживать деньгу более или менее темным путем. В среде ярославского купечества Елизаветинского времени мы видим даже фальшивых монетчиков. Купец Иван Гаврилов Оловянишников (по прозванию Буйло) работал оловянные полтинники и сбывал их кабацким целовальникам. Его присудили к вечной ссылке в Оренбург. (Журн. 1760 г., No 352). Но сохранилось предание, что Оловянишников-Буйло ухитрился каким-то образом объявить себя умершим и благополучно кончил живот свой в Ярославле, достигнув маститой старости.
Сравнительно с двумя предшествовавшими столетиями, т. е. XVI и XVII, город Ярославль много потерял, при Елизавете, в своем торговом значении. Основание Петербурга невыгодно повлияло на Ярославль. При Иване Грозном здесь было английское подворье, — позднее, при царе Алексее Михайловиче, ярославские торговые люди ездили в Амстердам с пушными товарами, а в Ярославль приезжали индийские купцы, продававшие разные ткани, кушаки, ковры, платки, фаты, шелк, набранные ими отчасти в Индии, отчасти, в Персии. Гамбургская фирма Марселисов также имела в Ярославле «двор», а ярославцы основали свои фирмы в Архангельске, где имели своих выборных целовальников. Занимая выгодное центральное положение между столицей и Архангельском, единственным тогда приморским портом, Ярославль привлекал к себе товары из Архангельска и сплавлял их в Нижний, откуда другие товары стекались в Ярославль, который особенно занимался судовым промыслом. Были у здешних жителей и другие промыслы; так, например, ярославцы делали разные стальные вещи, между прочим, висячие замки, сходные по фигуре с персидскими. Льняное семя и масло скупалось в Ярославле и сбывалось за границу через Архангельск. Торговали ярославцы также рыбой, за которою ездили в Астрахань, — одним словом, значение города Ярославля в купеческом и промышленном мире было не заурядное: ярославец ездил в иноземные страны и неутомимо сновал по всему лицу земли русской — от холодного Архангельска до жаркой Астрахани.
Упадок здешних торговых дел начался с Петра I и продолжался при его дочери. Руководствуясь единственно архивным материалом, мы сообщим здесь некоторые, довольно любопытные, подробности об ярославской торговле, на которую самым пагубным образом влияли, во-первых, внутренние таможни, во-вторых, многие монополисты из числа приближенных к императрице Елизавете особ.
Без платежа внутренних пошлин ярославец — торговый человек нигде не смел торговать. Ясно, что ему, непоседу, подвижной натуре, была особенно неприятна каждая таможня, где с него брали деньги и по законной таксе, и сверх ее, в виде взятки. Всюду существовали таможни. Прибыл ярославец в ближние города, — «рукой подать», — в Романов, в Ростов: плати деньги, испытывай множество препятствий для своих коммерческих оборотов. Наконец, императрица Елизавета облагодетельствовала свою империю, уничтожив внутренние таможни. Ярославское торговое сословие встретило эту реформу как самое светлое явление Елизаветинского царствования. Решено было поднести милостивой государыне «рабский презент или подарок».
Мысль о таковом «презенте» принадлежала, разумеется, не ярославцам; возбудил и осуществил эту мысль государственный главный магистрат, который дал знать ярославскому купечеству, что ее величество по уничтожении внутренних таможен изволила лишить себя более миллиона рублей каждогодного дохода…
Денежное «благодарение» в данном случае, конечно, было не вполне уместно, а потому русское купечество, через своих депутатов, нашло более удобным «купить на оные деньги вещь драгоценную, такую, какая бы ее императорскому величеству была в угодность». Но мог представиться случай, что «таковой потребной вещи в государстве в покупке изобрести неможно». Тогда что делать? Решили: «тогда уже всю ту сумму, променя в червонные, поднесть в дар ее величеству». С каждой купеческой ревизской души причитался на уплату этого «презента» один рубль. Первопрестольная Москва обязала провинциальный город Ярославль уплатить 7194 руб.; но Ярославль собрал несколько меньше, всего 5000 руб. Москва заявила свое неудовольствие и требовала, сообразно с ревизскими ведомостями, еще 2194 руб. Ярославль утверждал, что «сие будет излишек», что с него, оскудевшего города, причитается сверх пяти тысяч только восемьсот двенадцать рублей. А Москва писала: «Сие весьма не дельно! Ибо в присланной из камер-коллегии в главный магистрат ведомости показано в Ярославле 7194 души». Строго обязав сборщика, купца Кириллу Овсянникова, доставить в подарок императрице Елизавете Петровне еще 812 рублей, Ярославль почтительно объяснил Москве, что в «ярославском купечестве по нынешней ревизии и с прибылыми в пятидесятикопеечный оклад, заподлинно только 5812, а не 7194 души». Что это правда, магистрат ссылался на местную провинциальную канцелярию, где хранились поименные списки купцов как первостатейных, так и второстатейных. Вместо душевного умиления, вызванного на первых порах отменою внутренних таможен, ярославские коммерсанты обнаружили замечательную стойкость в охранении своих имущественных интересов. Магистрат рапортовал московскому начальству, что как он, так и купечество вовсе не желают «понесть напрасную нищету и изнурения». Рапорт оканчивался просьбою: «Милостиво рассмотреть и от напрасного взыскания излишних 1382 рублев дать увольнительный ее императорского величества указ». (Журн. 1754 г., NoNo 74 и 538). Чем кончилась эта борьба между Москвой и Ярославлем, нам неизвестно; но какой бы конец она ни имела, существование ее все-таки метко характеризует ярославцев, умевших постоять за себя в тех случаях, когда их били по самому чувствительному для них месту — по карману. Недружелюбно смотрел ярославский торговый человек и на монополистов, которых в Елизаветинское время было много, и все они принадлежали к аристократическому миру, очень далекому от понимания истинных потребностей и нужд народа. Впрочем, о народе ярославец-торгаш, в свою очередь, не слишком сокрушался; сам он, за немногими исключениями, разделял убеждение старой веры, запрещавшей, например, употребление табаку, как поганого и вредного для души зелья, но был не прочь выгодно продать это зелье мужику. На беду, «табачные дела» составляли монополию графа Шувалова, который воспользовался ею с 1759 г. на 18 лет. (Журн. 1760 г., No 19). Другой вельможный монополист, граф Роман Ларионович Воронцов, в 1760 г. составил товарищество с князем Борисом Александровичем Куракиным, чтобы вести торговлю «с кочующими по левую (?) сторону Каспийского моря народами: бухарцами, хивинцами и трухменцами (sic) {Sic — так! Приводится для того, чтобы обратить внимание на чьи-либо слова, подчеркнуть, что они переданы правильно, несмотря на всю их нелепость, и т. п. (прим. ред.).}. Монополия была дана на 30 лет. В этом деле граф и князь встретили нужду иметь сподручного опытного человека, и нашли такового между ярославским купечеством. Некто Иван Афанасьевич Колчин явился вдруг перед своими земляками-ярославцами, благодаря означенным «милостивцам», не заурядным купцом, а чиновного персоною. Колчин получил право носить шпагу; дом его был избавлен от солдатского постоя; служба по городским выборам, весьма тягостная для купцов, не касалась этого купца «при именитой шпаге» (Журн. 1760 г.,. No 269), которую, впрочем, он не употреблял против среднеазиатских варваров. Колчин жил почти безвыездно в Ярославле, занимаясь отдачею денег в рост; от него поступало в магистрат множество векселей ко взысканию. Другая особа тоже была не безгрешна, как ростовщик. Это был состоявший при герцоге Бироне пастор Иван Ермолаев Фрицын, которого ярославцы сумели обрусить так, что трудно догадаться о настоящей его фамилии. (Журн. 1759 г., No 253). Но если Колчины и подобные им ярославские купцы-эксплоататоры сидели дома, то, с другой стороны, между ярославцами были и такие предприимчивые торговцы, которые промышляли далеко от родины, в Сибири (журн. 1760 г., No 155), имели торговые связи с Англией (там же, No 30) и т. д. Следует заметить, что сейчас указанные нами факты встречаются в архивных делах очень редко, как исключение. Иностранные торговцы (нацию которых мы не можем определить) жили в Ярославле и при императрице Елизавете, что видно из одного магистратского определения, относящегося к 1756 году. Этим определением магистрат запрещал иностранным торговцам продавать свои товары «в розницу», только одно ярославское купечество имело право покупать их «оптом». Строгое наблюдение за сим возложено было на трех лиц, назначенных магистратом из среды местного купечества. (Жури. 1756 г., No 395). Оберегая интересы того же купечества, магистрат с неменьшею строгостью наблюдал за тем, чтобы и иногородние торговцы не продавали «большими статьями» своих товаров никому, кроме ярославских купцов. Астраханец привез сюда рыбу и продал угличскому купцу. Что же последовало? Рыба была арестована. (Журн. 1754 г., No 240).
Ограничения стесняли торговлю и промышленность, можно сказать, на каждом шагу. Например, ярославский купец Василий Крашенинников вздумал устроить шляпную фабрику. Государственная мануфактур-коллегия разрешила устройство этой фабрики с тем, чтобы на ней выделывались шляпы шерстяные и поярковые, но отнюдь не пуховые, которые были строжайше запрещены. (Журн. 1756 г., No 17). Немало рабочих рук занято было в Ярославле выделкою кож. Способ выделки существовал двоякий: посредством ворванного сала и посредством дегтя. Но правительство запретило последний способ, и провинциальная канцелярия зорко следила, чтобы не было сего «фальшу». (Журн. 1755 г., No 900). Крестьянин не дерзал промышлять в городе каким-либо ремеслом из так называемых кустарных, а если дерзал, то дорого платился за свою храбрость. Некто Григорий Федоров, «мужик», устроил в Ярославле овчинное заведение, где выделывал меховые одеяла. Как только сведал о том ярославский магистрат, сейчас же «взял под караул» все изделия, принадлежавшие мужику, а караульщиком, определил посадского человека Ивана Тимофеева Шапошникова; но караульщик, вероятно, вошел в сделку с мужиком и отрапортовал магистрату, что он, караульщик, винится: «уснул-де я крепко, а во время того сна незнаемые люди все арестованное своровали». За сию оплошность Шапошников был высечен плетьми. (Журн. 1756 г., No 393). Привезли крестьяне в Ярославль большой груз олова; усмотрели то магистратские члены, погнались за крестьянами, чтобы арестовать их; но мужики — давай бог ноги, и товар бросили, «знатно (заметил магистрат с удовольствием), признали за собою вину, что они везут то олово не на подлежащую им, яко крестьянам, продажу». (Журн. 1757 г., NoNo 60 и 62). Если ярославец, посадский человек, добывал себе кусок хлеба изящным искусством, живописью (вернее сказать, малярством), то и в этом ремесле для него были препоны немалые, обрекавшие кисть его на бездействие. Так, мы видим, что в 1757 году, исполняя распоряжение правительства, ярославский магистрат строго запретил «неискусным художникам» писать портреты императрицы Елизаветы и других высочайших особ, т. е. Петра Феодоровича, его супруги Екатерины Алексеевны и сына их Павла Петровича. Велено было: «желающим писать или грыдорованные и тушеванные (портреты) печатать и из алебастра отливать, объявлять те портреты, для свидетельства, мастерской и оружейной палаты надзирателю Одольскому, которым в этом свидетельстве удовольствие имеет чиниться всякого коснения». (Журн. 1753 г., No 413). Ювелирное искусство в Ярославле не процветало, о чем можно заключить из следующего документа. Еще при императрице Анне, в 1735 году, назначен был в Ярославль пробирный мастер Михайло Антонович Серебряников с жалованием, которое он должен был получать из городских доходов; магистрат, однако, не заплатил ни копейки до 1760 года; тогда долготерпеливый Серебряников предъявил иск на большую, по тому времени, сумму — 1.144 рубля. Магистрат отозвался, что содержать сего мастера не за что: в Ярославле-де имеются серебряные и медные вещи: серьги да перстни и то по малому числу, а золотого и серебряного крупного мастерства посуды и крупных вещей не имеется». (Журн. 1760 г., No 257).
За правильностью торговли наблюдали «рядовые старосты», они обязывались присягой служить верно и честно. Каждый вид торговли подлежал контролю особого старосты. Для краткости он назывался просто «мучным», если сидел в мучном ряду, «масленым», если заведывал лавками, где продавалось масло, «крупяным», «медяным» и т. д. (Журн. 1760 г., No 62). Составлявшая монополию казны продажа соли была вверена в Ярославле 18-ти присяжным соляным целовальникам (ibid, No 26) {ibid — там же (прим. ред.).}, которые должны были взносить, непосредственно в магистрат, деньги, вырученные от «соляной продажи» — одной из самых крупных доходных статей государственного хозяйства при императрице Елизавете. Иногда в ярославском магистрате накоплялись значительные соляные сборы; но правительство редко пользовалось ими непосредственно: оно обращало магистрат в своего комиссионера, посредника между ним (правительством) и его многочисленными кредиторами. При неимении в описываемое время банковых учреждений их заменяли магистраты. Делалось это следующим образом: правительство занимало, например, у ярославца, имевшего торговые дела в Петербурге, несколько тысяч рублей и выдавало своему кредитору вексель на получение должной ему суммы из местного магистрата в счет соляных или других сборов. (Журн. 1754 г., No 183 и мн. др.). Случалось, что сборов было недостаточно и магистрат затруднялся уплатить сполна государственному кредитору; но последний предъявлял строгий указ, который обязывал магистратских членов дополнить недостававшую сумму из своих купеческих средств. Сомнительно, что таковые банковые операции, вынужденные плохим состоянием русских финансов и роскошью Елизаветинского двора, были по душе членам ярославского магистрата; но спорить и прекословить они не дерзали, имея перед собой указы, подписанные магическим пером графа Шувалова и других вельмож, от которых зависело или разразиться над непокорным купцом всесокрушающим гневом, или наградить покорного, «облагородить» его, дать ему (как сообщено выше) «именитую шпагу», ввести во дворец… хотя бы в звании камер-лакея. С ярославскими купцами случались удивительные метаморфозы: они были обращаемы в придворных лакеев. Такая судьба постигла купца Федора Горшкова, определенного, по распоряжению придворной конторы, в лакейскую должность к высочайшей особе императрицы Елизаветы. (Журн. 1760 г., No 737).
Нам остается сказать еще несколько слов о домашней обстановке ярославского купечества. Беднейшие из этого сословия ничем не отличались от посадских людей; богачи, «первостатейные купцы», щеголяли одеждою своих жен и дочерей, иконами в великолепных окладах, домашней утварью и проч. Сообщаем любопытное описание приданого купеческой невесты Ксении Петровны Ширяевой, выданной за президента ярославского магистрата Егора Викулина. Между супругами было заключено условие (приданая роспись), в силу которого, после смерти мужа, вдова его имела право получить все «данное за нею в приданство», как-то: святые образа, алмазы, жемчуг, белье и деньги. В росписи упомянуты: «Образ Толгские богоматери в окладе серебряном с жемчугом; образ Преображения господня в окладе-ж; образ Казанские богородицы в окладе-ж с жемчугом; образ Рождества богородицы в окладе-ж; образ Неопалимые купины в окладе-ж. Одежда и жемчужная утварь с алмазы, а именно: эпанечка из материи на чернобуром черевьем лисьем меху, цена сто семьдесят рублев; шуба изарбатная на лисьем черевьем меху, ценою в 50 рублев; эпанечка штофная цветная на лисьем черевьем меху и с опушкою, цена 55 рублев; шлафар пукетовый штофный белый, цена-80 рублев; шлафар алый объяринной с сеткою серебряною, цена 32 рубля; шлафар лазоревый объяринной с позументом золотым, цена 40 рублев; шлафар гарнитуровый желтый, цена 45 рублев; шлафар краснопалевый, цена 25 рублев; юпка пукетовая белая, цена 40 рублев; юпка алая объяринная, с сеткою серебряною широкою, цена 60 рублев; шесть душегреек голевых и изарбатных штофных с пукетами, с позументами, цена 50 рублев; белья: шесть скатертей, шесть дюжин салфеток ткацких, цена 70 рублев; 40 рубах, цена 60 рублев; полотенцев и прочей белой рухляди на 30 Рублев; постеля со всем убором, цена 300 рублев; перстень золотой с алмазами, цена 40 рублев; кружев белых нитяных, немецкой работы, самых тонких 9 аршин, в том числе 3 аршина по 3 рубля аршин, а 6 аршин по 2 рубля, итого цена за кружева 21 рубль; два кольца золотых, Цена 10 рублев; жемчугу и всякого каменья по цене на 800 рублев, да сверх сего деньгами приданого 4.000 рублев…» (Журн. 1756 г., No 560). Так щеголяли богатые ярославские купчихи, нарядившись в «эпанечки», в кружева «немецкой работы» и возбуждая алчность господина воеводы с господином полициймейстером.
К этим особам мы и обращаемся. Тип воеводы — известный тип. Ярославль не был счастливее других городов, где «кормились» эти, по большей части, плохие администраторы и в то же время бесчестные, продажные судьи. Да и вообще ярославская провинция терпела много горя от воевод. Не уступали им ни в чем также полициймейстеры, находившиеся только в провинциальных городах, которые, следовательно, были обречены на двойное, усиленное грабительство. В каком-нибудь Пошехонье «бездельничал» один воевода Шушерин {Сей воевода до того забездельничался, что правительство вынуждено было назначить особую следственную комиссию «о непорядочных и указом противных поступках» оного воеводы. (Журн. ярославск. магистрата 1756 г., No 2).}, в Ярославле же «бездельничали» двое: воевода, коллежский советник Павлов, и полициймейстер, поручик Кашинцев. Первый из них, человек хитрый и осторожный, не прибегал к собственноручной расправе с магистратскими членами; по крайней мере наши документы, описывающие воеводу Павлова в непривлекательном виде, умалчивают о том, что за ним водился этот грех, присущий воеводам Елизаветинского времени. Но у коллежского советника Павлова были другие грешки, между прочим, чревоугодие. Полициймейстер Кашинцев дрался собственноручно и брал взятки всем, решительно всем: деньги, лошади, экипажи — все соблазняло его; не давали охотой, он хватал насильно. Воевода же Павлов любил преимущественно лакомый кусок и отличался от всеядного полициймейстера гастрономическим желудком. Чревоугодие — страсть, повидимому, безобидная, невинная; но она оказывалась в воеводе весьма пагубною страстью, ибо он кормился на счет ярославского купечества, которое волей-неволей снабжало его высокородие различной живностью, дичью, рыбой и т. д. Между прочими сказаниями о лакомке-воеводе, магистратский летописец сохранил для нас сказание о том, какая страшная буря возникла из-за белой рыбицы.
Однажды прибегает воевода в магистрат и гневно объявляет оному, что рыбные торговцы Бобров, Дьячков и Прохоров бунтуют, оскорбляют воеводскую честь, да и сам магистрат виновен в том же деле.
— «В каком же деле?» — спросил бургомистр Дьяконов.
— «В том, — отвечал воевода, — что 29-го июля послан был от меня, для покупки к воеводскому столу моему всякой рыбы, а особливо белой, человек мой Прокофий Некрасов. И оному человеку ярославец, рыбный промышленник, Петр Бобров, объявил, что белой рыбицы он не продает, якобы за запрещением, исшедшим от ярославского магистрата. И не продал».
— «Тут нашей вины нету, господин воевода, — оправдывались бургомистр и ратман.— Мы не запрещали…»
Воевода продолжал:
— «А еще объявил мне канцелярист провинциальной канцелярии Иван Моложенкин, что и он-де, для своей надобности, требовал рыбы у купцов: у вышереченного Петра Боброва, да у Егора Прохорова, да у Егора-ж Дьячкова. И те отказали. И говорили: никому-де, кроме магистратских господ присутствующих, нам не велено продавать рыбу. Спрашиваю вас: вследствие каких высочайших ее императорского величества указов, магистрат учинил сие запрещение?»
— «Оного от нас не бывало, — отвечали бургомистр и ратман.— Мы старательно допросим рыбных торговцев».
Несколько успокоившись, воевода удалился из магистрата; но последний, вскоре после воеводского визита, получил официальную преморию, которая настойчиво требовала, чтобы экстренному делу о белой рыбице, якобы не проданной воеводе и его подчиненному, канцеляристу Моложенкину, дан был скорый законный ход, согласно указам ее императорского величества. Рыбных торговцев вызвали в магистрат и допросили, к счастию, без пытки. Оказалось, что они нисколько не виноваты перед воеводою. Сущность дела заключалась в том, что воеводский слуга хотел приобрести только четверть белой рыбицы, «а за крайним недостатком тех белых рыбиц в улове и за дороговизною в цене, начата рушить (резать) было невозможно, ибо оная целая белая рыбица состоит ценою до полутора рубля; а ежели бы отнять от оной четверть и достальную по частям продавать, то на те части купцов (покупателей) бывает весьма мало, и вскоре оную продать невозможно». Однако, когда слуга объявил, что рыба требуется не для подлого какого-либо человека, а для самого воеводы, ибо он имеет в ней великую нужду, — то «для услуг и за честь оного воеводы, купец Дьячков четверть отрушил и с немалою уступкою и за тое четверть взял токмо 25 копеек… И после того, по требованию упомянутого того-ж его высокородия, продавал купец Бобров белую рыбицу без всякого препятствия, а именно: августа 1-го — на двадцать на четыре копейки, 2-го — на двадцать на три копейки, 3-го — на двадцать на пять копеек, 5-го — на двенадцать копеек, итого на 84 копейки, но денег еще не получил». Рыбные торговцы в заключение своего показания объявили: «Не токмо в дом его, господина воеводы, но и другим всякого чина и подлым людям, как белую, так и других родов рыбу, мы продаем в народ свободно, без всякого препятствия», и проч. (Журн. 1754 г., No 840). Из-за чего, спрашивается, кляузничал коллежский советник Павлов? Разгадка не затруднительна: ему хотелось полакомиться даром, а купцы, вероятно, намекнули, что пора, дескать, и честь знать, воевода праведный.
История о белой рыбице кончилась печально для магистратских членов. Прописав в ответной премории все произведенное ими следствие, они просили воеводу избавить их от «напрасного нарекания». Воевода решился проучить магистрат за непочтительный ответ. Мы уже имели случай сказать, что Павлов был осторожен, сам не дрался; но у него была правая рука, некто Иван Козаринов, подпрапорщик адмиралтейского батальона, герой наполовину морской, наполовину сухопутный. Он-то, по обязанностям правой руки, и наказал магистратских членов, «доведя их до необыкновенного страху и конфузии». (Там же, No 841). Не будем описывать возмутительную сцену, происшедшую в магистрате 5 августа 1754 года: сна тождественна с теми сценами, которые уже нами изложены выше. Ругательства, крик, «хватание членов за платье», защита со стороны магистратской прислуги — вот в чем состояла эта сцена, устроенная воеводою при помощи буйного подпрапорщика.
В конце своего воеводства Павлов стал невыносимо тяжел для купцов. Если он не бил их сам, то ярославцам было от того не легче. Воевода посылал «многолюдственные команды», которые ловили мирных граждан на улицах, вламывались в дома, заключали под жестокий караул. Такую участь испытали, например, купцы Семен и Михайло Козины; первый из них был схвачен посреди белого дня на улице, а второй, вытащенный из своего дома воеводскою челядью, «был с великим посягательством и принуждением допрашивай». Магистратские сотские тоже терпели горькие обиды от клевретов воеводы, хотя и не были подчинены ему непосредственно. Магистрат протестовал так: «Господин воевода! Купцы и сотские — люди не подозрительные, да и суду провинциальной канцелярии не подлежащие». (Журн. 1755 г., NoNo 106 и 213). Наконец, правительство обратило свое внимание на Павлова, лишило его воеводства и предало суду. (Журн. 1756 г., No 85). Место его занял Большой-Шубин, человек хороший, судя по тому, что в магистратских делах (по крайней мере в тех, которые служат материалом для нашего очерка) нет указаний на особенную жестокость или взяточничество этого воеводы. Ярославцы могли быть довольны уже и тем, что их грабят и тиранят меньше прежнего.
Тираном, бичом для ярославцев был полициймейстер, поручик Кашинцев. Руководясь правилом Скотинина, что «всякая вина виновата», Кашинцев притеснял ярославцев на каждом шагу, где только являлась возможность поживиться, сорвать взятку. Придираясь к мелочам, к ничтожным нарушениям полицейского устава, он сажал купцов под арест за то, например, что «якобы нечистота против дворов их оказуется». Действительно, ярославцы Елизаветинского времени не отличались чистоплотностью; да Кашинцев вовсе и не заботился о ней: она служила ему лишь предлогом для взятки. В доме купца Григория Оловянишникова квартировал пастор, состоявший при Бироне; перед домом оказалась нечистота, пастор ли шепнул полициймейстеру, что, дескать, у нас в Курляндии сего безобразия не случается, увидал ли сам Кашинцев это безобразие, — история о том умалчивает, но она утверждает, что полициймейстер грозил Оловянишникову: «Я тебя к стулу прикую, я тебя на цепь посажу! Сиди под арестом!» И посадил; затем арестовал слугу Оловянишнико» ва, посадского человека Ивана Нортова, который ехал по улице. Лошадь и телега сделались добычей полициймей. стера. (Челобитье Оловянишникова в журнале 29 марта 1756 года, No 236). Вероятно, Кашинцев был любитель лошадей: он отбивал их при помощи своей дворни. Ехал посадский человек Афанасий Салов мимо Спасского кабака, на реку Которостль. «И в то время, нашед на него ярославского полициймейстера, поручика господина Кашинцева, дворовые люди, называемые один Семен Портной, а другого по имени он, Салов, не знает, да с третьим незнаемым же ему крестьянином, и, остановив лошадь его, говорили, что он, Салов, якобы извощик и чтоб ту лошадь отдал. А когда он, Салов, объявил, что не извощик, и той лошади не давал, то оные люди били его против самого того Спасского кабака, где стоит обыкновенный караул. Впрочем, Салов отделался довольно дешево: полициймейстерская челядь не завладела его лошадью: он ускакал, избитый до полусмерти» (Челобитье Салова в журн. 9 февраля 1756 года, No 121). Кашинцеву легко было разорить бедного человека окончательно, как говорится, до тла. Весь труд состоял в том, чтобы обвинить «супротивника его благородия, господина полициймейстера», в укрывательстве беглых и беспаспортных. Затем следовал арест, продолжавшийся неделю, месяц и более, смотря по тому, когда и какая лепта предлагалась за освобождение из-под ареста. Однажды были взяты в полициймейстерскую контору сын посадского человека Иван Налепов, да работник его, тоже ярославский посадский, Василий Рукавишников, под тем предлогом, что они не имеют паспортов. Напрасно старик Налепов доказывал господину полициймейстеру, что нет резона коренным ярославцам, которые никуда из своего города не отлучались, иметь при себе паспорты. Кашинцев лишил их свободы и «держал под крепким караулом». (Журн. 1756 г., No 239). Посадский Яков Москательников, в октябре 1756 года, бил челом магистрату в следующем: привез-де отец его на своей барке соль из Нижнего-Новгорода, и придрался-де к нему господин полициймейстер Никанор Кашинцев за то, что он, старый Москательников, не объявил ему своевременно паспортов тех рабочих, которые были на барке. «В цепь заковать!» — коротко и ясно распорядился полициймейстер. «И содержался мой родитель (писал сын заключенника) сего октября с второго по шестое число в цепи, а с 6-го числа хотя уже и не в цепи, но с прочими колодниками, яко злодей, держится и поныне. Отчего все работные люди с судна разбежались, соль выгружена на берег, и приведены мы в крайнее разорение и нищету». (Журн. 1756 г., No 621). Акулину Кафтанникову, жену посадского, полициймейстер Кашинцев «изнурил и ввел в нищету» тем, что распорядился занять ее дом и надворные постройки лошадиным табуном: 15 коней, да столько же человек прислуги содержались за счет злополучной Кафтанниковой. (Журн. 1756 г., No 694). За отказ подписать бумагу, обвинявшую посадского Ивана Козырькова в уличной драке, Козырьков был прикован полициймейстером к стулу, «яко злодей», и сидел на цепи три дня и три ночи. Когда же, не взирая на закование, Козырьков снова уклонился от рукоприкладства, то «Кашинцев четырекратно разоблачал меня (жаловался несчастный посадский) и сек плетьми, а напоследок бил меня, вышедши из-под караула, на Пробойной улице батожьем». (Журн. 1756 г., No 51).
Особенно зверски Кашинцев поступил с купцом Васильем Ивановым Крепышевым. В чем заключался этот поступок, мы узнаем из челобитья жены Крепышева, Анны Артемьевны, поданного в магистрат 7-го апреля 1757 года, когда Кашинцев был уже в отставке. Челобитчица начинает с того, что в среду 2-го апреля муж ее пропал. Когда он уходил из дому, жена спросила:
— «Куда идешь?»
— «К Кашинцеву, чтоб уплатить долг».
— «Зачем? — ведь срок платежа еще не наступил?»
— «Все равно. Я должен ему 1510 рублев по четырем векселям, которые он, прежде сроков, для требования порук, протестовал, и те протесты объявлены в ярославский магистрат. А я не хочу допустить себя до порук и до суда: отдам Кашинцеву имеющийся у меня на ярославского купца, шелковой фабрики содержателя, Егора Холщевникова два векселя в сумме на 1614 рублев. Прощай жена!»
И ушел. День миновал, а его все нет. Купчиха встревожилась, побежала разведывать, куда девался ее сожитель. По справкам оказалось, что «оный поручик Кашинцев, напоя оного мужа ее, усиленно взял с собою в гости в Коровницкую слободу к квартирующему в доме ярославского купца Афанасия Кириллова сына Шапошникова офицеру; а какой оный офицер команды и как его зовут, того-де она, Анна Артемьева, не знает».
Вероятно, офицер стоил своего друга, полициймейстера. Вдвоем они принудили Крепышева пить до безумия, играть, плясать, бороться, вообще — разыгрывать страдательную роль шута. Мало ли кто был шутом в доброе старое время? Уж если при Анне Иоанновне аристократ, князь Голицын, всемилостивейше пожалован был в шуты и распевал петухом, то нечему удивляться, что ярославский купец изображал собою на четвереньках пошехонского медведя. Анна Артемьевна Крепышева описывает так злую шутку, сыгранную над ее мужем: «Заставливая его, пьяного, плясать и бороться усиленно, чинили над ним великое посмеяние; а потом его, уже весьма пьяного, принудили играть с собою в карты, который-де муж в беспамятстве и играл. А по слухам-де от людей оного Кашинцева, муж ее проиграл не малую сумму денег. А потом-де оного мужа ее Василия Крепышева, не отпуская из горницы, дабы он не мог выйти в хозяйские покои, толкали, совали на стену, и он головою и другими членами бился немилостивно. А потом-де оный поручик Кашинцев велел людям своим оного мужа ее втащить в лодку и отвезти с собою в квартиру свою и, не отпуская домой, оставил ночевать в людском подклете». Напрасно Крепышева спрашивала «многократно» людей господина полициймейстера, где ее муж: по заказу барина, они утаили истину, которая открылась не прежде 3-го августа. «А тогда-де третьего числа, уже пополудни, ища мужа своего, разведала она, что-де он в Крашенинном ряду на лавочных палатях своих лежит бесчувственен и не говорит».
— «Что с тобой, Василий Иванович?» — завопила баба.
Но Василий Иваныч токмо дико мычал и не мог объяснить, как он очутился на лавочных палатях; «затем с крайнею нуждой стал говорить о тех над ним чинимостях, а в совершенную помять придти и точного о своих обидах обстоятельства показать никак не может». Взятых им с собою векселей при нем не оказалось. (Челобитье Анны Крепышевой в журнале 1757 г., No 216). Не решаемся, однако, за неимением данных, сказать, что они были похищены Кашинцевым, который, вероятно, долго бы еще продолжал грабить, брать взятки и потешаться над ярославским торговым людом, если б во главе сего люда не стоял миллионщик Иван Дмитриевич Затрапезнов. Полициймейстер думал сломить этого туза и жестоко ошибся в расчете. Затрапезнов выхлопотал в Москве удаление Кашинцева, с преданием его суду «за обиды и нападения! и за другие резоны». (Журн. 1756 г., No 735). Преемником его был капитан Петр Кайсаров, недолго сидевший на полициймейстерском стуле. Кайсарова заменил какой-то князь Гелованов, личность бесцветная, не оставившая после себя никакой памяти в истории города Ярославля при императрице Елизавете.
Кончая эту историю, мы боимся выслушать упрек читателя за несообщение новых фактов, касающихся Федора Григорьевича Волкова, который был неизмеримо выше, с нравственно-поэтической стороны, всех описанных здесь героев, зараженных худшими болезнями русского общества: самоуправством, взяточничеством и т. д. Отец русского театра является в наших глазах, действительно, самою светлой, безупречной личностью. Он один искупает собою, перед судом истории, Елизаветинский Ярославль. К сожалению, общеизвестную биографию Федора Григорьевича Волкова мы можем дополнить только немногими, хотя и не лишенными интереса, сведениями. Заимствуем их из указа государственной берг-коллегии в Ярославскую провинциальную канцелярию и из журналов ярославского магистрата.
Федор Григорьевич Волков, бессмертный основатель русского театра, родился 9-го февраля 1729 года в Костроме. Но ярославцы не должны уступать его своим соседям — костромичам. Нет! Волков наш, всецело наш, ярославец. Прекрасное и великое, по своим последствиям, создание его — русский театр — основалось на ярославской почве. Волков провел в Ярославле свою молодость. Он явился здесь, как автор драматических произведений, как артист и, наконец, как художник-живописец (по его рисунку сделан иконостас в Николо-Мокринской церкви). Волков любил ярославские святыни. Но мы, неблагодарные потомки, к стыду нашему, забыли того человека, который сам составляет для нас историческую святыню.
Мать Федора Григорьевича, костромская купчиха Матрена Яковлевна Волкова, после смерти своего первого мужа, вступила в брак с ярославским купцом Федором Васильевичем Полушкиным, который усыновил ее детей, своих пасынков: Федора, Алексея, Гаврила, Ивана и Григория. Биографы Волкова до сих пор, один за другим, повторяют ошибку, что Полушкин был бездетен: у него была дочь от первой жены, Матрена Федоровна, состоявшая в замужестве за ярославским купцом Макаром Игнатьевичем Кирпичевым.
Судя по упомянутым документам, Полушкин принадлежал к числу наиболее зажиточных и предприимчивых купцов. Вместе с ярославским купцом Тимофеем Шабуниным он «приискал» удобные для постройки серных и купоросных заводов места «близ города Ярославля и Волги-реки, да близ же Макарьевского Унженского монастыря {При селе Коврове.} на берегу Унжи-реки». 2-го сентября 1736 года и 5-го июля 1737 года коммерц-контора и берг-контора разрешили Подушкину построить означенные заводы, которые затем, по определению берг-конторы, 4-го ноября 1741 года, перешли во владение Подушкина, вступившего тогда же в товарищество с ярославским купцом Иваном Мякушкиным. Бывший пайщик Тимофей Шабунин, по полюбовному договору с Полушкиным, согласился «при тех заводах не быть, а быть на ряду с купечеством».
Биографы Волкова утверждают, что Полушкин послал его в Заиконоспасскую академию учиться закону божию, немецкому языку и математике. Там-де он и познакомился с театральным миром, там и увидал некоторые из Мольеровских комедий и разные мистерии, игранные на святках семинаристами. К сожалению, в наших документах не упоминается о пребывании Волкова в академии; но, допустив этот факт, мы должны допустить и то, что юноша Волков мог быть в числе, так сказать, первобытных актеров-семинаристов, мог сознавать неудовлетворительность мистерий по отношению к драматическому искусству и по отношению к языку, который состоял в дикой смеси полуславянских, полурусских слов. Такие произведения, например, «Как Юдифь голову царю Олоферну отрубила», едва ли могли удовлетворить даровитого, поэтически настроенного Волкова.
Даровитость его сознавал и Полушкин, но готовил своего пасынка не в актеры, а хотел сделать из него купца-фабриканта. В 1743 году (следовательно, когда Волкову было 14 лет) вотчим основателя русского театра сообщил берг-коллегии, что «товарищ-де его Мякушкин, за неимением своего капитала, в заводском произвождении с ним быть не желает, а вместо-де его, Мякушкина, для лучшего заводского произвождения и государственной прибыли, принимает он себе в товарищи пасынков своих (следует перечисление их; Федор Григорьевич значится на первом месте), которые тот завод производить обще с ним желают». Нужно заметить, что при заводе состояли мастеровые приписные люди. Федор Волков вместе с братьями, «во время учиненной по присланному из берг-коллегии указу, мастеровым людям переписи», обязался наблюдать как над заводами, так и за «работными людьми». С своей стороны Полушкин дал письменное обязательство наградить пасынков «за их при заводском произведении усердное рачение и труды, сверх содержания их на своем коште, из прибыли от тех заводов из половины, а по усмотрению впредь их учинить в четвертой части наследниками». Берг-коллегия утвердила этот договор, когда Федор Волков подписался: «служить при заводах, и те серные и купоросные заводы производить с прилежным рачением, а не для одного токмо вида, чтоб заводчиком слыть и от купечества отбывать».
Но, вопреки данному обязательству, Федор Волков отбывал. Выделка серы, купороса и мумии не интересовала его. Биографы гласят, что в 1746 году он уехал в Петербург, «для навыка в бухгалтерии», и поступил в одну из немецких контор; что хозяин-немец взял однажды Волкова в придворный театр послушать итальянскую оперу; что опера произвела на молодого человека глубокое впечатление; что еще большее впечатление испытал Волков, когда ему удалось попасть за кулисы театра, устроенного воспитанниками шляхетного корпуса, которые разыгрывали драмы Сумарокова. Далее биографы утверждают, что Федор Григорьевич Волков хорошо научился по-немецки и по-итальянски, перевел с этих языков несколько пьес, которые и привез с собою в Ярославль, где и решился основать русский театр; снял планы и рисунки всего устройства сцены, машин, декораций; набрал в Ярославле труппу, куда поступили его братья Таврило и Григорий и еще несколько- мальчиков, из которых впоследствии приобрел историческую известность Иван Афанасьевич Нарыков (Дмитревский), друг великого английского актера Гаррика и его достойный соперник. Волков решился потешить старика-вотчима невиданной диковинкой, театром, устроенным в сарае. Полушкин, увидавши чудо, был-де вне себя от изумления; мать Волкова расплакалась от радости, что бог дал ей такое разумное детище. Полушкину особенно понравились облака, которые подвигались и опускались, как настоящие…
Так говорят почтенные биографы Ф. Г. Волкова. Но, кажется, они чересчур разукрасили истину, во всяком случае, сделали хронологическую ошибку. Едва ли Волков, отправленный в Петербург в 1746 году, мог через год овладеть в совершенстве двумя иностранными языками, изучивши одновременно весь театральный механизм, которым, будто бы, изумил и восхитил своего вотчима. Как бы ни был талантлив семнадцатилетний Волков, но один год — срок слишком недостаточный для изучения механики, рисовального искусства и двух языков. Между тем из цитируемых нами архивных документов несомненно оказывается, что купец Полушкин в 1747 году умер. Дочь его Матрена писала в своей жалобе: «Оный отец ее усмотрел их, Волковых, неспособных и ни мало к заводскому произведению не рачительных, а при том, ведая силу указов, что оные Волковы к наследству отца ее никакого права не имеют во оной (четвертой) части, ни в чем наследниками не учинил, и в 1747 году умре». Трудно согласить лишение наследства с артистическим восторгом заводчика Полушкина, человека безграмотного {«Покойный отец мой (писала Матрена Кирпичева) грамоте и писать не умеет«.— Л. Т.}, человека старого закала. Едва ли он восторгался и умилялся, глядя на театральные игрища своих пасынков. Вернее, что смерть старика дала Волковым полную свободу отдаться артистическим наклонностям. Волковы завладели имуществом своего вотчима. Это поселило вражду между ними и сводною их сестрой, упомянутою Матреной Кирпичевой, которая била челом на Волковых, что они, расстроив заводы, нисколько не заботились о них, рабочих же людей обратили в комедиантов… «После смерти его (Полушкина) не токмо из прибыли половиною, или четвертною частию, но и всеми показанными заводами с людьми и домом и с пожитками упоминаемые Волковы, не имея никакого к наследству резона, завладели напрасно. И, не зная к заводскому содержанию искусства ни малого, в том не употребляли рачения, и ведая, что им не прочны оные заводы, привели их в крайнее несостояние. И заводских людей, вместо надлежащей должности, употребляют при себе в комедии и в прочие свои услуги. И, знать, чтоб о том их Волковых нерадении и заводов упущении берг-коллегии узнать было не можно, о заводском состоянии репортов не справляли, за что и штрафованы«. Челобитчица просила ярославскую провинциальную канцелярию: 1) представить в берг-коллегию об утверждении ее, Матрены Кирпичевой, единственною наследницей после купца Полушкина, и 2) обязать Волковых подпиской, чтобы они «заводов отца ее и прочих имениев, до отдачи ей не растратили, а людям притеснения и напрасных побой не чинили«. Последнее сказано было единственно для красного словца. Сами «работные люди» умалчивают, по нашим документам, о побоях, будто бы наносимых Волковыми, обвиняя своих хозяев-заводчиков лишь в том, что они, Федор и Алексей Григорьевы дети Волковы, с братьями, привели заводы «зо всеконечный упадок и подрыв», оставили их, рабочих, без работы, «в убожестве и разорении», не кормят, не одевают, от себя не отпускают, а при том запрещают быть послушными Матрене Кирпичевой. Всех рабочих было шесть человек. Один из них, Федор Петров, «с товарищи» спрашивал берг-коллегию: «от кого нам, для пропитания и удовольствия, получать плату? у кого в послушании быть: у Кирпичевой, или у Волковых?» Далее мы увидим, как решены были эти вопросы; теперь же обратимся к Федору Григорьевичу Волкову.
Сделавшись хозяином, он получил возможность предаться своему любимому искусству. Волков построил театр на берегу Волги. Местонахождение этого первого русского театра приурочивают к Полушкиной роще, где будто бы стоял сернокупоросный завод Полушкина; но завод находился не там, а по другую сторону города, за Ямским лесом, в Дядьковском овраге. Следовательно, театральное здание было не при заводе, отстоявшем от Ярославля слишком далеко, верстах в пяти. Окрестности Полушкиной рощи, более близкие к городу и более живописные, чем Дядьковский овраг, скорее могли обратить внимание Волкова при выборе места для театра, который был торжественно открыт (когда именно?) представлением оперы «Титово милосердие». Биографы Волкова утверждают, что эта опера была переведена с итальянского самим Федором Григорьевичем; он также принял на себя обязанности декоратора, машиниста, капельмейстера и проч. Устройство театра потребовало значительных издержек. Чтобы хоть сколько-нибудь вознаградить их, Волков назначил цены на места в театре: кресла стоили 25 копеек, галерея — пятак, за раек брали гривну. Весть о ярославском театре достигла императрицы Елизаветы, благодаря случайному обстоятельству. Некто, сенатский экзекутор Игнатьев, приехал в Ярославль для ревизии дел по винному откупу. Игнатьев часто посещал театр Волкова и, возвратившись в Петербург, донес об этой новинке генерал-прокурору, князю Никите Юрьевичу Трубецкому, а князь доложил государыне, страстной любительнице увеселений. Немедленно поскакал в Ярославль гонец, капитан Дашков, с указом: привезти в Петербург всю ярославскую труппу. Государыня приняла наших «актиоров» чрезвычайно милостиво. Волков, Нарыков (переименованный в Дмитревского) и другие, наиболее талантливые «актиоры», получили высочайшее повеление остаться в Петербурге; другие же, бесталанные, возвращены были на родину.
Отправление Ф. Г. Волкова в Петербург последовало в 1752 году, что видно из следующего обстоятельства. Братья его Алексей и Таврило, вытребованные в ярославскую провинциальную канцелярию по спорному делу с купчихой Кирпичевой, между прочим, заявили: «Большой-де наш брат Федор, да меньшой Григорий Волковы взяты в 1752 году, по имянному ее императорского величества указу в С.-Петербург, для представления комедий, и имеются-де там при российском театре актиорами«. Вызов братьев Волковых в провинциальную канцелярию последовал на основании указа берг-коллегии, которая на первый раз (17 декабря 1753 года) решила означенное дело с соблюдением интересов обвинявшейся стороны, т. е. Волковых, которым было позволено владеть как Ярославским, так и Унженским серными заводами, «с имеющимися на оных работными людьми», «обще с Матреной Федоровой дочерью Кирпичевой». В 1753 году Ф. Г. Волков официально считался костромским купцом, а не «актиором ее величества». По указу берг-коллегии, тогда еще не была снята с Волкова обязанность «производить те заводы с прилежанием, усердием и радением». Наш «актиор» должен был выплавлять серу, варить купорос и делать краску мумию «против прошлых лет со излишеством», не щадя при том собственного своего капитала. Затем берг-коллегия поручила ярославской провинциальной канцелярии «наикрепчайше исследовать в самой скорости: правда ли, что Федор Волков и его братья, не радея о заводах, употребляют заводских людей при себе в комедии и в прочие свои услуги?».
Вопросы, данные берг-коллегиею, имели полнейшее юридическое основание. Для этого присутственного места, ведавшего рудокопное дело, артистическая жизнь, которую вел Федор Григорьевич Волков, представлялась уклонением от его прямых обязанностей, соединенных с званием владельца заводов. Мы смотрим на Волкова, как на бессмертного основателя русского театра. Нам, как англичанам и французам, которые дорожат каждым новым фактом, касающимся биографии Шекспира и Мольера, следует дорожить материалами для биографии Волкова {В этих видах мы и сообщаем здесь настоящие материалы.— Л. Т.}. Но тот же Волков в глазах его современников, членов берг-коллегии, был не кто иной, как только беззаботный, плохой заводчик, нарушавший законы Петра Великого, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Берг-коллегия выписала в своем определении все законы, которые обвиняли Волкова. 18 января 1721 года Петр I издал указ, отменявший запрещение «купецким людям» покупать населенные имения. «Многие возымели, к приращению государственной пользы, заводить вновь разные заводы, а именно: серебряные, медные, железные и игольные и прочие, сим подобные». Для размножения таких заводов Петр I разрешил: «как шляхетству, так и купецким людям к тем заводам покупать деревни невозбранно, с позволения берг- и мануфактур-коллегии». Впрочем, разрешение дано было не безусловно, а под «кондициею»: дворянство (шляхетство) и купечество «отнюдь не смели тех деревень без заводов продавать или закладывать». В 1739 году, 3 марта, заводчики были предупреждены, что они могут лишиться заводов с приписанными к оным людьми, если станут «леностно производить» заводское дело. Наконец, указом правительствующего сената от 21 августа 1753 года подтверждено было берг-коллегии «наикрепчайшее смотрение иметь» за владельцами заводов; «а которые заводчики свои заводы леностно производить станут или только для лица иметь будут с такими поступать по указам неотменно». Ярославская провинциальная канцелярия усердно занялась следствием, цель которого состояла в том, чтобы доказать «леность» Федора Григорьевича Волкова и его братьев. Приведен был из них в канцелярию один брат Иван Григорьевич; но он отозвался неведением, как и что происходит на заводах, объявил при том, что братья его «находятся в разных отлучках, а именно: Федор — при российском театре актиором, Алексей и Таврило — в Москве, Григорий — в С.-Петербурге, а ему-де, Ивану, в допросе быть, в силу присланного из берг-коллегии указу, не можно, потому что он, Иван, с самого ребячества и поныне в Ярославле, при доме умершего вотчима своего Федора Подушкина и на заводах, нисколько не живал». Итак, из пяти братьев Волковых, один Иван был совершенно чужд интересам своего знаменитого брата и «жил своим домом безотлучно», вероятно, на родине — в Костроме. Ярославский воевода оставил Ивана Волкова в покое, более не допрашивал и обратился с допросами к остальным братьям при посредстве копииста провинциальной канцелярии Федора Антипина, которому дана была инструкция — описать заводы в присутствии Волковых или поверенного с их стороны; «а буде (гласила инструкция) их в доме нет, или упрямством не пойдут«, то составить опись при посторонних людях. Возвратясь с поисков, Антипин донес, «яко-де он ко объявленному Федору Волкову с братиями ходил многократно и данную ему и инструкцию им, Волковым, объявлял и, по объявлении, требовал, чтобы они, Волковы, при описи оных заводов с ними были». Но явился в Ярославль только один Алексей Волков, да и тот «известия о людях (состоявших при заводе) не дал и при описи не был. А в Унженский уезд, для описи, на серный и купоросный завод упрямством своим никто из Волковых не поехали«. Вместо них на Унжу прибыл костромской купец Яков Белозеров, управляющий тамошним заводом, который оказался «в опущении, строение все сгнило». Впрочем, явившиеся в провинциальную канцелярию Алексей и Таврило Волковы утверждали, что копиист Антипин писал ложно, что они «с братьями рачения имели, искусство к тому знают». Потом те же Волковы объявили, что они употребили свой значительный капитал, а именно полторы тысячи рублей, на усовершенствование заводского дела. Может быть, кроме этой суммы, еще из нашего капитала были траты (говорили Волковы), только мы о том ныне показать не знаем; «а знает-де о том и показать может, и всякие заводские письма имеет у себя большой наш брат Федор«. Эти слова любопытны в том отношении, что они доказывают полное доверие Волковых к «большому брату». Только один Иван жил особняком, сторонился от общих семейных интересов; по крайней мере, в денежных делах Иван не принимал никакого участия, состоя лишь номинально в торговой фирме Волковых. Указ берг-коллегии от 18 августа 1754 года окончательно разрушил эту фирму. Единственной наследницей Полушкина признана была дочь его, Матрена Кирпичева, ей были переданы заводы, с обязательством, чтобы она «крайне и усердно старалась выварку на оных серы и купоросу и делание краски мумии умножить». Относительно же Волковых последовала резолюция: «Выключить их из заводчиков, и впредь их заводчиками не считать, а быть им на ряду с купечеством. И для того данный им, Волковым, из берг-коллегии о бытии им при означенных Полушкина заводах указ, взяв у них, Волковых, прислать в берг-коллегию немедленно». Кроме заводов, были и другие спорные вопросы между Волковыми и сводною сестрой их, Матреной Кирпичевой; но берг-коллегия не вошла в рассмотрение этих вопросов, определив так: «Что-ж они, Волковы, в ярославской провинциальной канцелярии показывали, якобы они, Волковы, по вступлении их в то заводское содержание, для размножения оных, из собственного своего капитала употребили денег полторы тысячи рублев, которые у них означенный вотчим их Полушкин занял и в тех деньгах заложил им двор свой: да по смерти его, Полушкина, по данным от него векселям имели платежи собственными своими деньгами;— а означенная оставшаяся после заводчика Полушкина дочь Матрена Кирпичева показывает, что после смерти отца ее двором и всеми пожитками и лавками завладели означенные Волковы сильно, и к тому наследству ее не допускают: и в том во всем Волковым и Кирпичевой ведаться между собою судом, где надлежит». Но Кирпичева не долго «ведалась». Из журнального определения ярославского магистрата (1756 г., No 498) видно, что в августе 1756 года ее не было уже в живых: «Ныне ярославскому магистрату не безызвестно, что объявленная Матрена, Полушкина дочь, будучи бездетна, помре». С нею прекратилось прямое потомство вотчима Ф. Г. Волкова; боковые же линии купеческого рода Полушкиных в описываемое время еще существовали: упоминается Иван Васильевич и Алексей Леонтьевич Полушкины, которые были поручителями за Федора Полушкина в уплате долга, 1 500 рублей, по выданной братьям Волковым закладной. Об одном из них, Алексее Григорьевиче, мы нашли сведение, что к 1758 году он имел вексельные дела с ярославским купцом Затрапезновым. (Журн. 1760 г., No 554); отсюда заключаем, что некоторые из Волковых, в конце Елизаветинского царствования, находились в Ярославле, или, по крайней мере, ликвидировали здесь свои торговые дела.
Старший Волков, конечно, раньше перестал заниматься ими. В 1750 году, 30 августа, исполнилась его задушевная, любимая мысль: состоялся высочайший указ об учреждении российского театра. Вся дальнейшая деятельность Волкова была направлена к пользе того же театра. Императрица Екатерина II, при восшествии своем на престол, за оказанные ей Волковым услуги, пожаловала его дворянством и населенным имением в 700 душ… Но он не хотел оставить своего искусства, считая его не менее благородным, не менее почтенным, чем дворянское звание. Дворянин-актер — явление единственное в XVIII веке!
Вообще Волков представляет собою личность необыкновенную. Он не был женат и, как уверяют его биографы, никогда не влюблялся. Он имел только одну возлюбленную — театральную сцену. Весь поглощенный страстью к своему искусству, к драматическому творчеству, Волков представляет нам собою идеал актера. Самая смерть его (в 1763 году), к несчастию, слишком преждевременная, вызвана была усиленными трудами при устройстве московского театра. По словам современников, Волков имел величественную и благородную наружность. Вернейший портрет его находится в Ярославском Демидовском лицее, которому пожертвовал его, также незабвенный в летописях русского театра, М. С. Щепкин.
Ярославцам два раза представлялась возможность почтить достойным образом память Волкова: в 1856 году — в столетний юбилей русского театра, и в 1873 году, когда минул век после смерти великого человека. Мы, ярославцы, просмотрели; мы забыли тогда о лежащей на нас нравственной обязанности отпраздновать Волковский юбилей (конечно, не пошлым образом, не «обедом»). Пишущий эти строки уже осмелился однажды послать ярославцам, во всеуслышание, горький упрек за невнимание к памяти Волкова и снова повторяет сказанное им прежде: через три года (4 апреля 1879 г.) исполнится полтораста лет со дня рождения отца русского театра Федора Григорьевича Волкова. Как бы хорошо было, если б к тому времени (оно еще не ушло), в виду Демидовского лицея, рядом с колонной Демидова, воздвигнулся памятник с надписью:
«Волкову — благодарное потомство».
Не надо особенно пышного монумента: самый скромный памятник все-таки лучше холодного забвения, лучше, чем людская неблагодарность.
(Напечатано в журнале «Древняя и Новая Россия» за 1877 год)
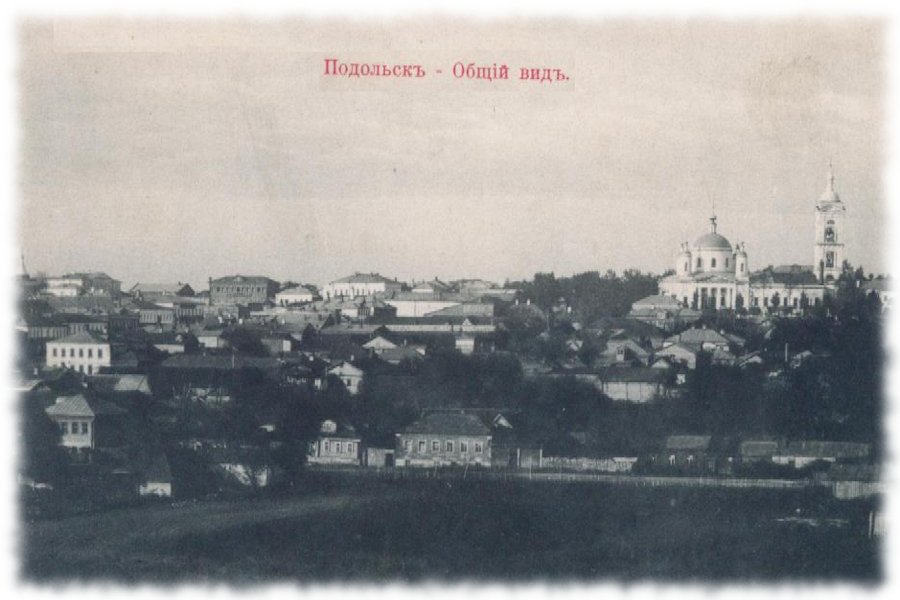
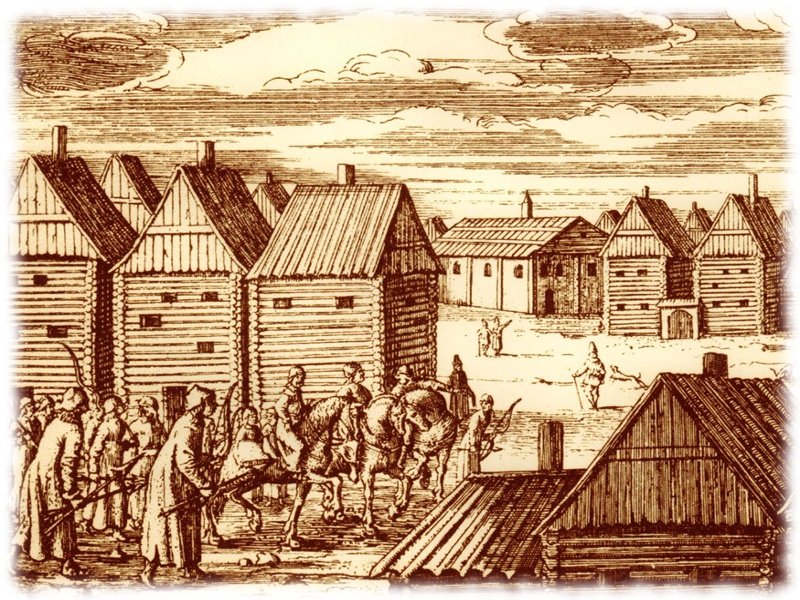


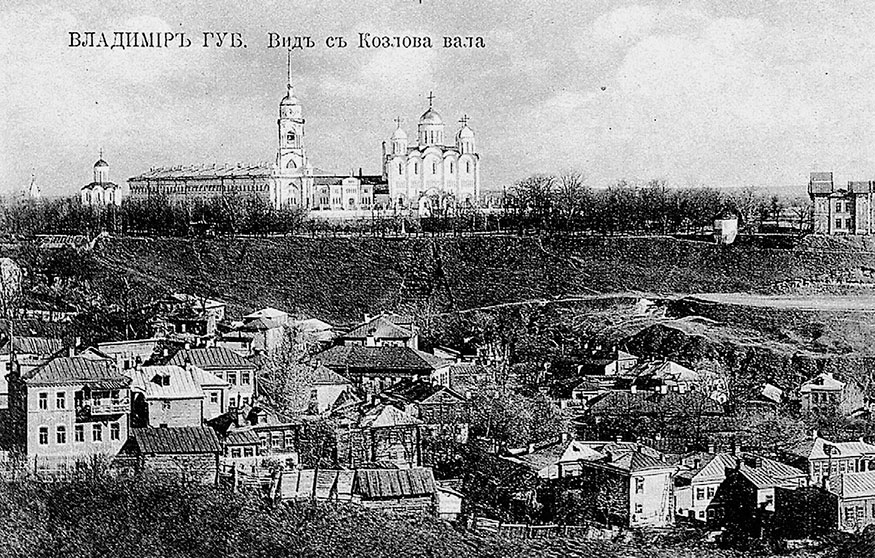

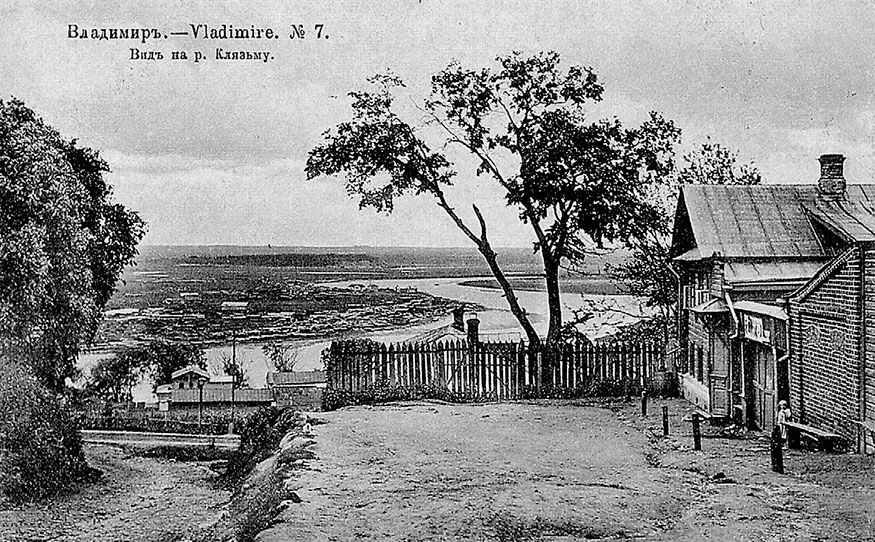

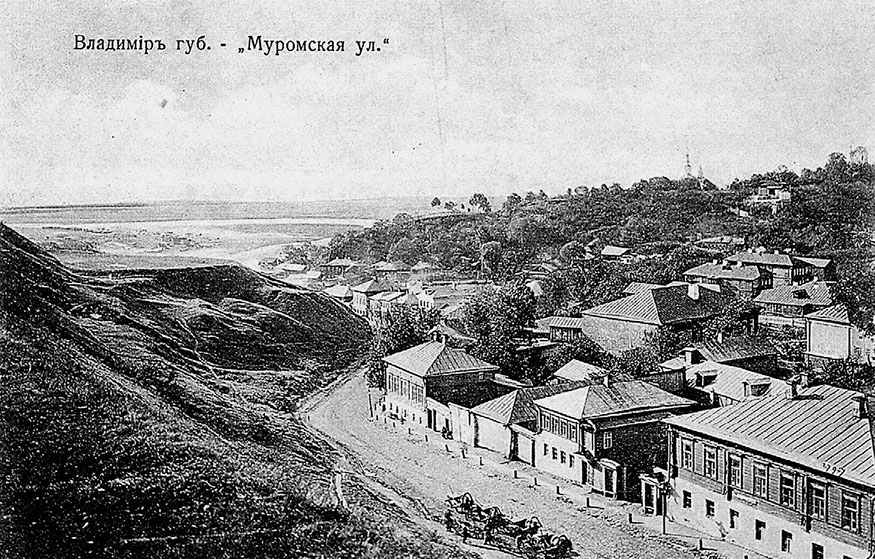

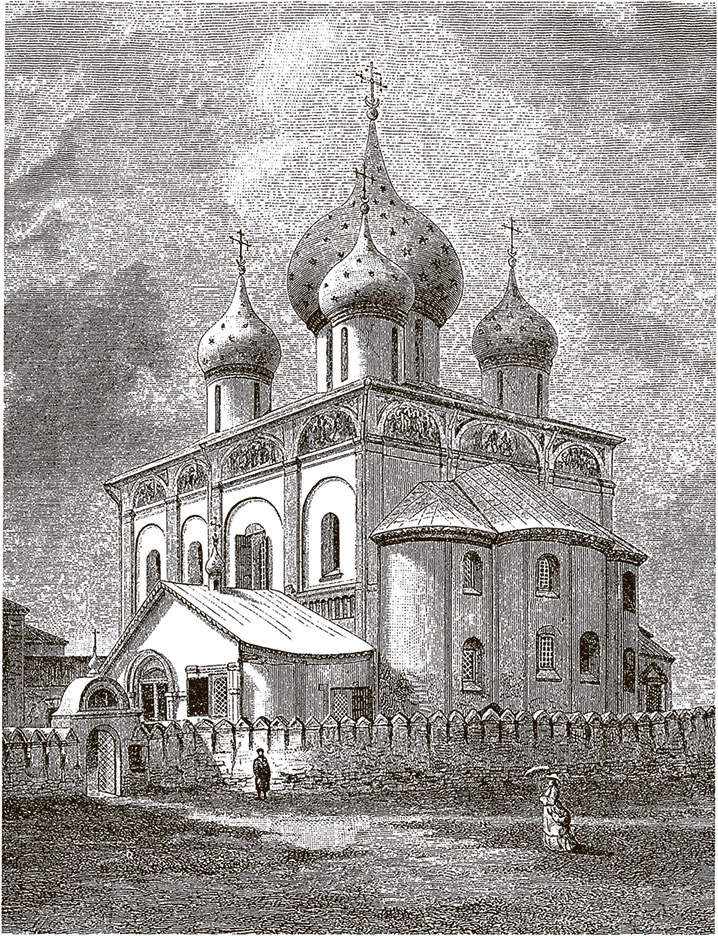



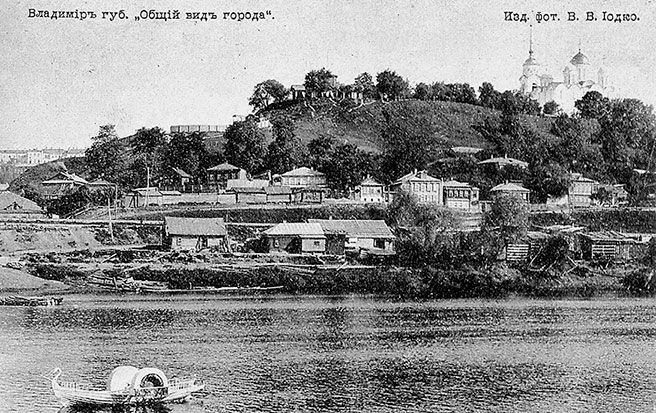
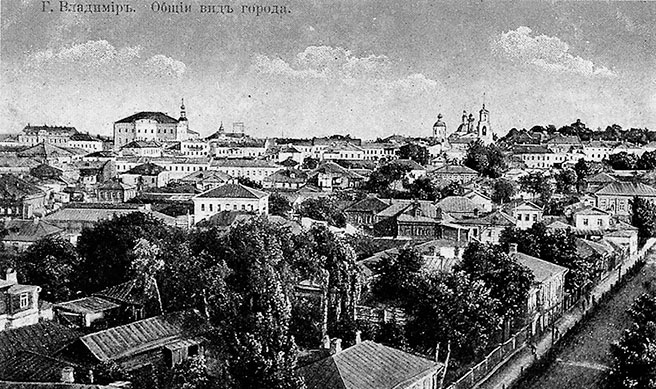
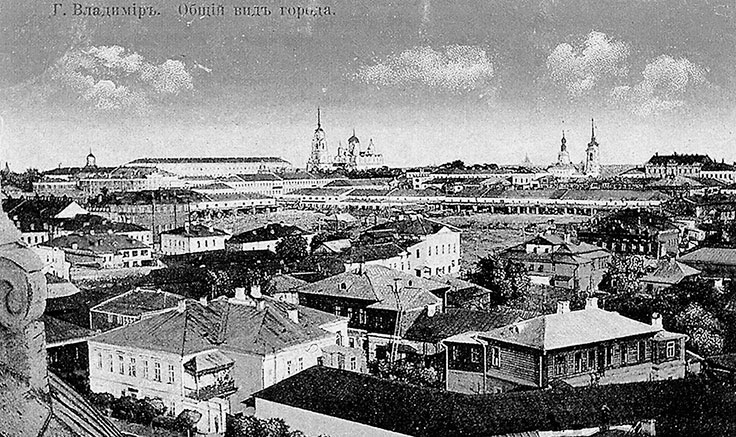
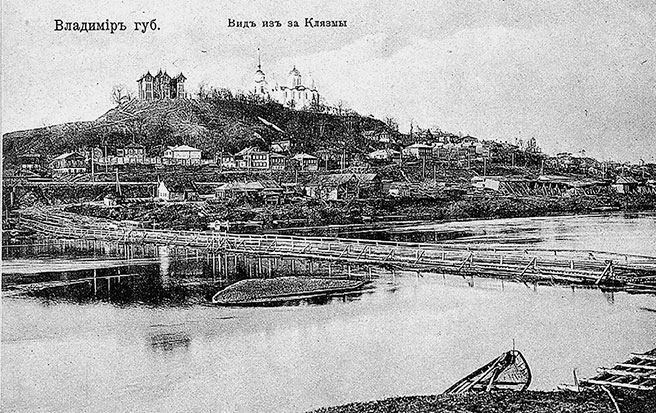

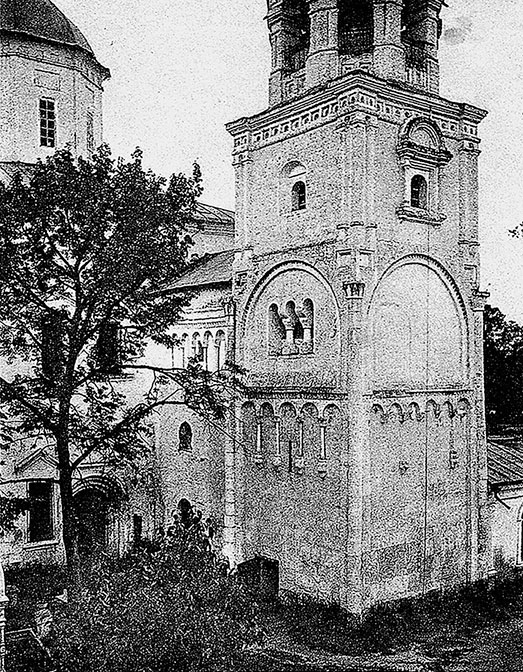

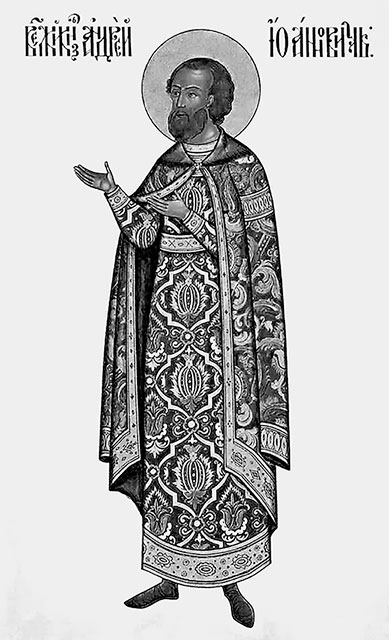
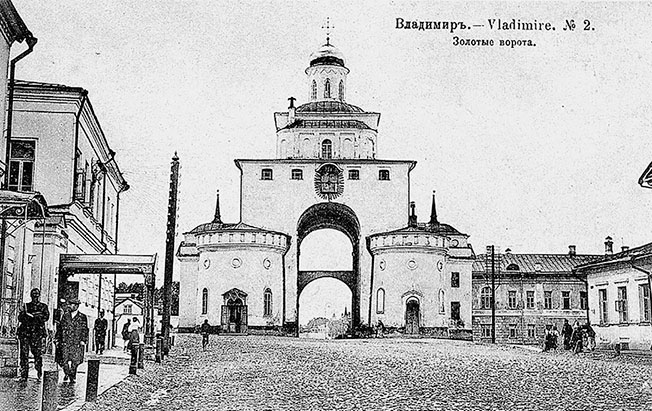
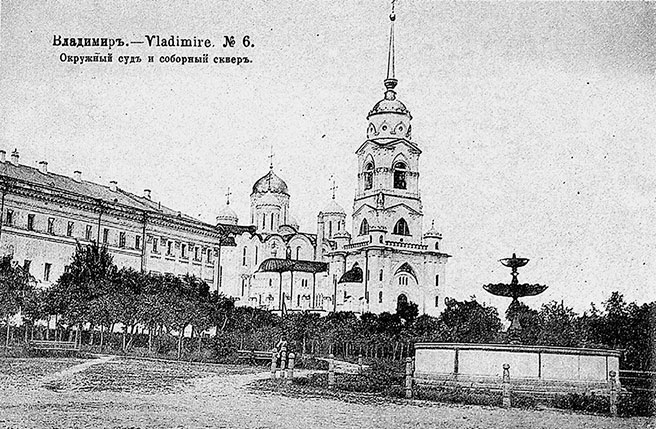
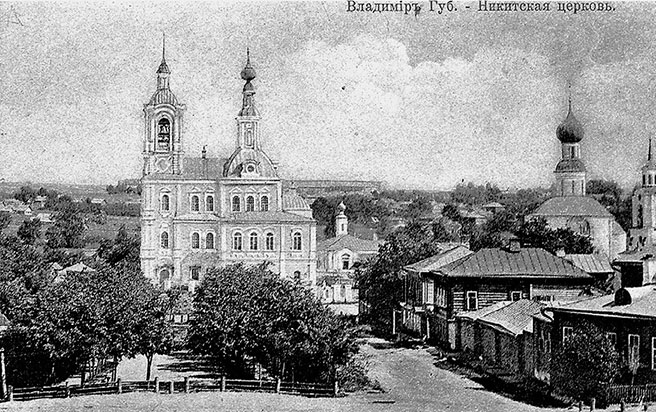



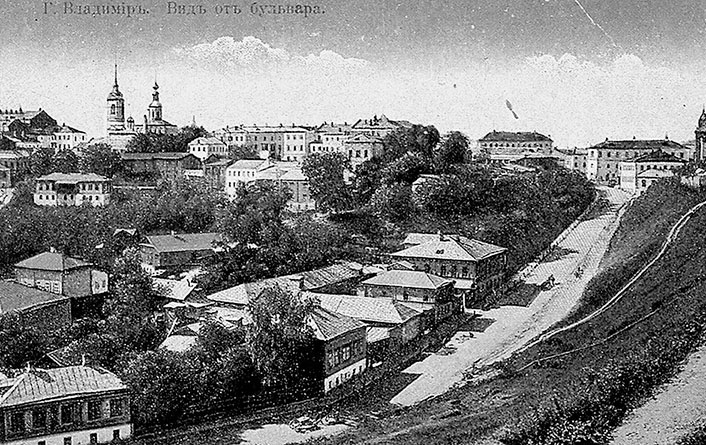
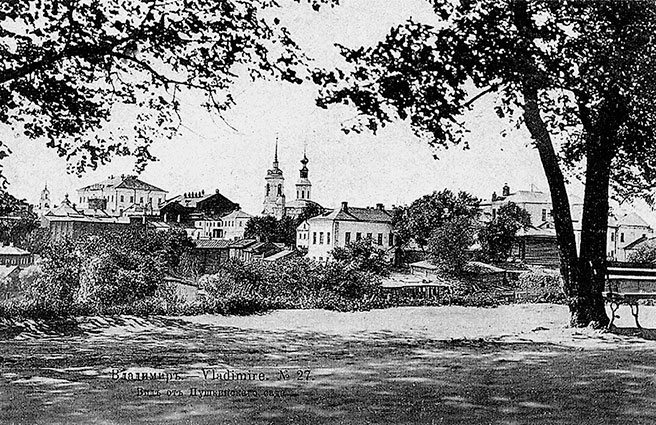

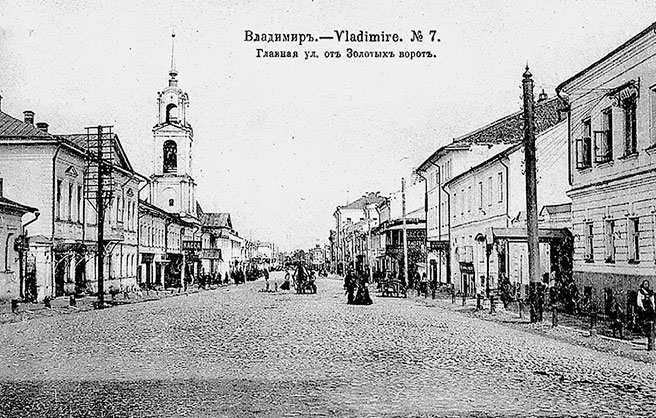
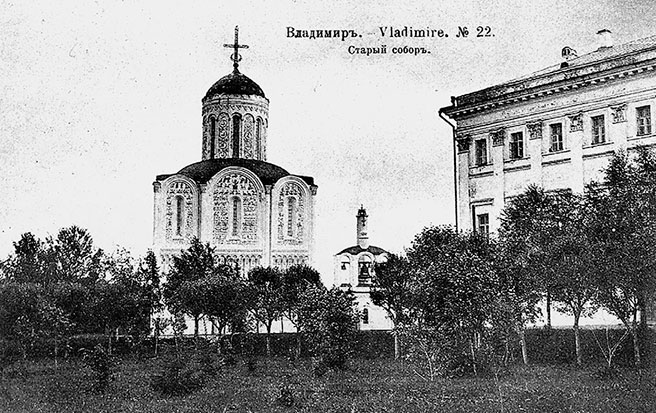
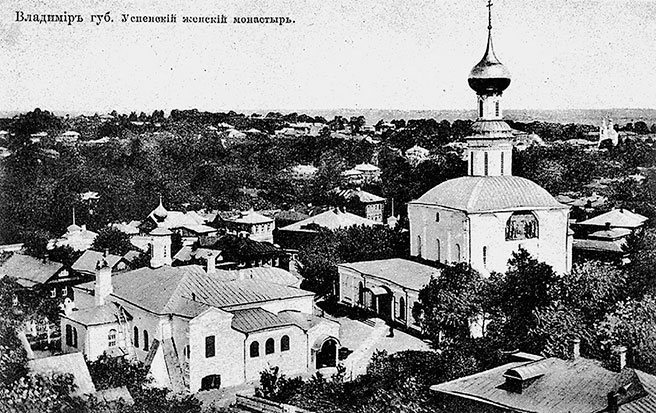

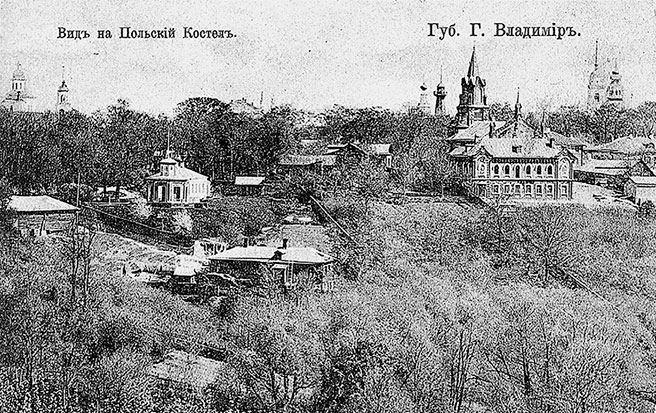

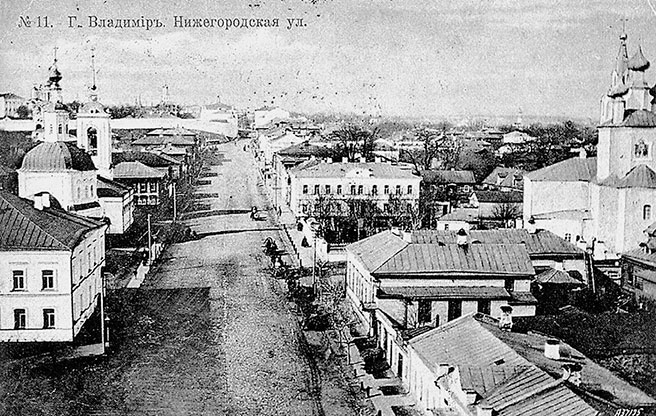
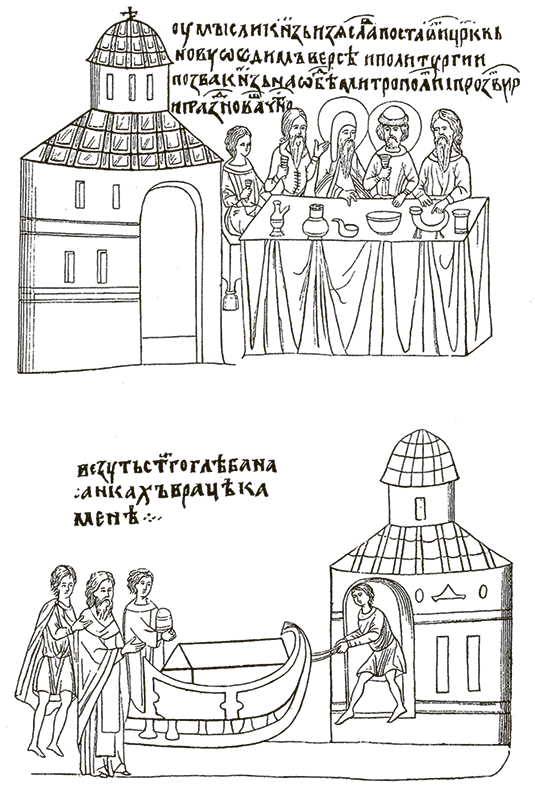




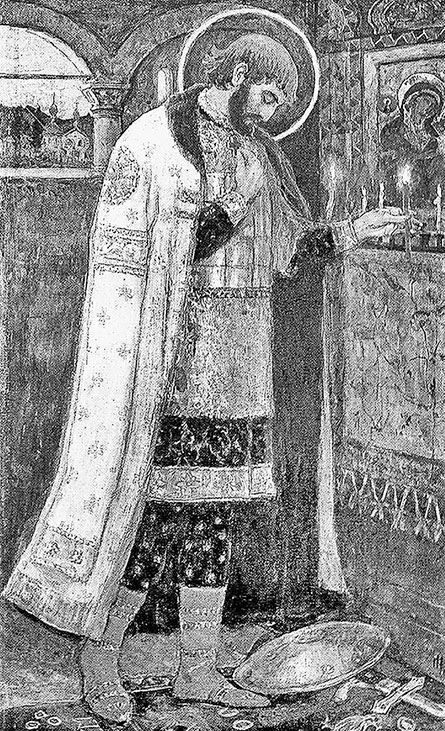





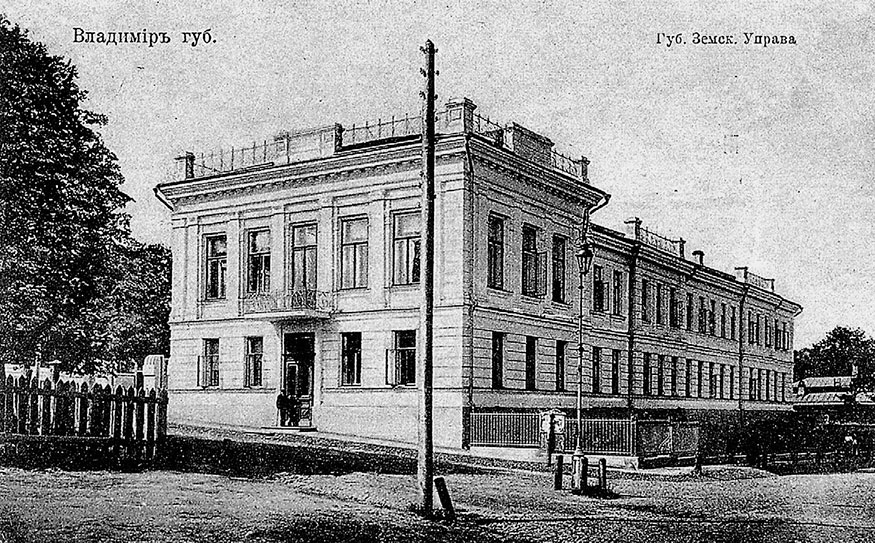


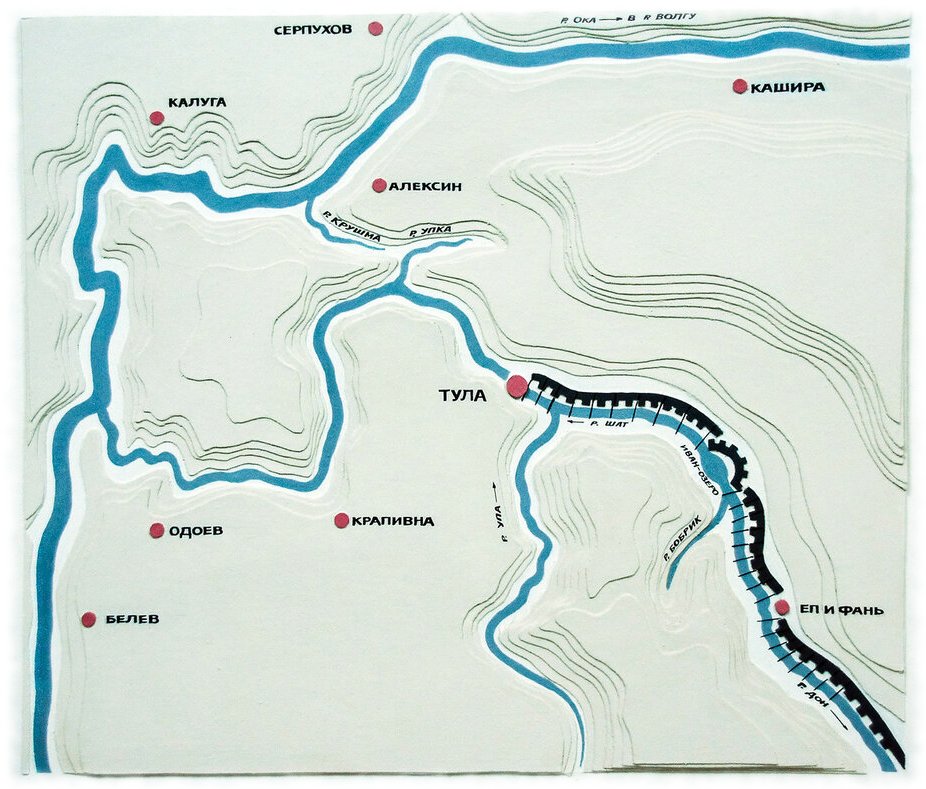

 Уже в первые десятилетия своего существования город быстро растет и в 1181 г. в летописи упоминают о нем как об укрепленном форпосте Владимиро-Суздальского княжества, в которое он входил. Потом Дмитров принадлежал князьям Галицким.
Уже в первые десятилетия своего существования город быстро растет и в 1181 г. в летописи упоминают о нем как об укрепленном форпосте Владимиро-Суздальского княжества, в которое он входил. Потом Дмитров принадлежал князьям Галицким.

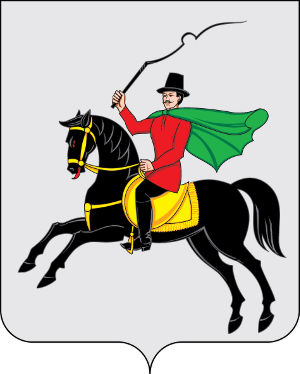 Сегодня Клин
Сегодня Клин

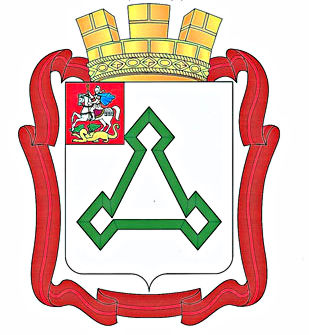 Свое наименование город получил по слову «волок» — месту, где древние новгородцы перетаскивали — волокли свои лодки из одной реки в другую. В старину на Руси было много поселений, расположенных около древних «волоков».
Свое наименование город получил по слову «волок» — месту, где древние новгородцы перетаскивали — волокли свои лодки из одной реки в другую. В старину на Руси было много поселений, расположенных около древних «волоков».

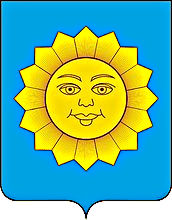 Но в связи с тем, что на территории Московской области оказалось два Воскресенских района, 27 декабря 1930 года районный центр — город Воскресенск был переименован в Истру (по названию реки), а район — в Истринский район (Пост. ВЦИК ) (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. Отдел 1. № 2 от 10 января 1931 г. — ст. 23)
Но в связи с тем, что на территории Московской области оказалось два Воскресенских района, 27 декабря 1930 года районный центр — город Воскресенск был переименован в Истру (по названию реки), а район — в Истринский район (Пост. ВЦИК ) (Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. Отдел 1. № 2 от 10 января 1931 г. — ст. 23)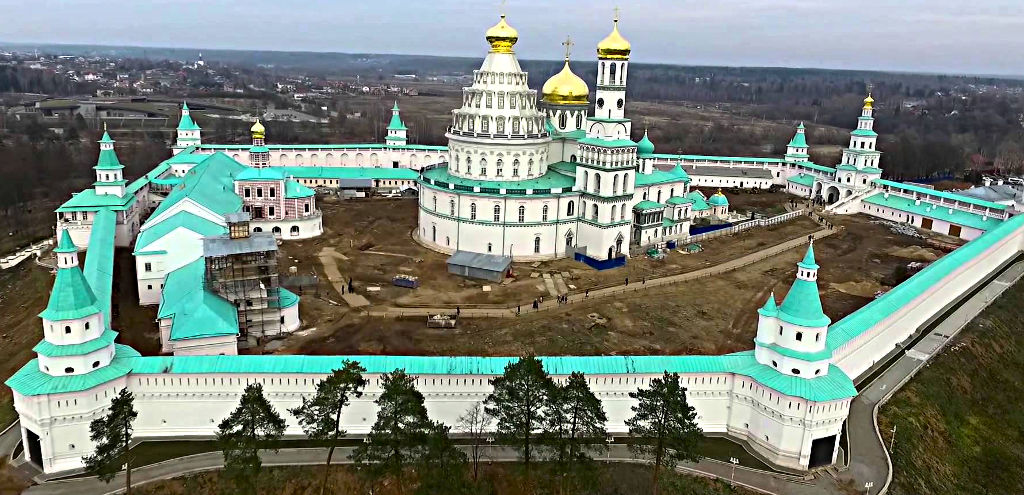
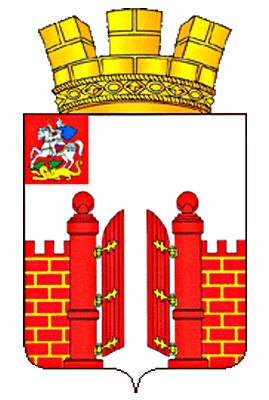 Он раскинулся на прибрежных возвышенностях р. Протвы (приток Оки), очень живописно расположен и возможно более других русских городов сохранил особое обаяние старины, общий «камерный» масштаб города, который так соответствует величине его кремля — древнейшей части Вереи. Из любой точки города видны окружающие его до сих пор леса, видны они даже из кремля — центра древней Вереи.
Он раскинулся на прибрежных возвышенностях р. Протвы (приток Оки), очень живописно расположен и возможно более других русских городов сохранил особое обаяние старины, общий «камерный» масштаб города, который так соответствует величине его кремля — древнейшей части Вереи. Из любой точки города видны окружающие его до сих пор леса, видны они даже из кремля — центра древней Вереи.
 Город расположен в 52 км к юго-востоку от Москвы и в 13 км от железнодорожной станции Бронницы, на пересечении федеральной автодороги М5 «Урал» и Московского малого кольца.
Город расположен в 52 км к юго-востоку от Москвы и в 13 км от железнодорожной станции Бронницы, на пересечении федеральной автодороги М5 «Урал» и Московского малого кольца.
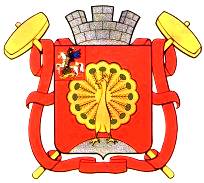 Своеобразно историческое прошлое этого древнего города — он был основан московскими князьями в начале XIV в. как наиболее удаленная южная крепость, входившая в систему обороны Москвы.
Своеобразно историческое прошлое этого древнего города — он был основан московскими князьями в начале XIV в. как наиболее удаленная южная крепость, входившая в систему обороны Москвы.
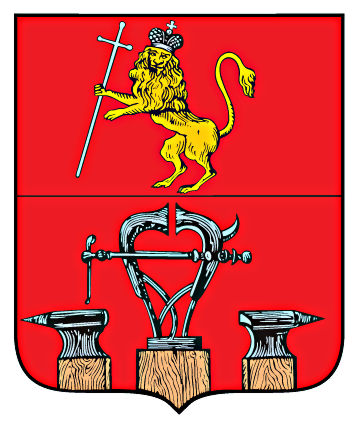 В начале XVI в. исключительно живописное место, богатое лесами, дичью, облюбовал отец Ивана Грозного великий князь московский Василий III и создал здесь свое загородное имение. В Александрове он стал часто бывать во время выездов на охоту в глухие переславльские леса.
В начале XVI в. исключительно живописное место, богатое лесами, дичью, облюбовал отец Ивана Грозного великий князь московский Василий III и создал здесь свое загородное имение. В Александрове он стал часто бывать во время выездов на охоту в глухие переславльские леса.
 Существует несколько версий происхождения названия города. Расположение в излучине Волги, где река делает крутой поворот, образуя в своем течении угол, объясняет одну из них.
Существует несколько версий происхождения названия города. Расположение в излучине Волги, где река делает крутой поворот, образуя в своем течении угол, объясняет одну из них.




















 Основателем Переславля-Залесского принято считать князя Юрия Долгорукого. Извилистая речка здесь тоже получила название Трубеж. А озеро, в которое она впадает, назвали Плещеевым. Озеро это глубокое, беспокойное, богатое рыбой, а потому и на старинном гербе города ниже княжеского льва изображены две серебряные рыбы.
Основателем Переславля-Залесского принято считать князя Юрия Долгорукого. Извилистая речка здесь тоже получила название Трубеж. А озеро, в которое она впадает, назвали Плещеевым. Озеро это глубокое, беспокойное, богатое рыбой, а потому и на старинном гербе города ниже княжеского льва изображены две серебряные рыбы.








 Во второй половине X века началась славянская колонизация верхневолжских земель, связанная с разложением первобытнообщинного строя и формированием феодальных отношений у восточнославянских племен. В поисках свободной от феодальной эксплуатации земель славянские крестьяне потянулись на северо-восток, в междуречье Волги и Оки. В период XI-XII веков местное мерянское население растворилось в потоке пришлого славянского. Славянская колонизация сопровождалась возникновением городов, а также развитием ремесел и торговли.
Во второй половине X века началась славянская колонизация верхневолжских земель, связанная с разложением первобытнообщинного строя и формированием феодальных отношений у восточнославянских племен. В поисках свободной от феодальной эксплуатации земель славянские крестьяне потянулись на северо-восток, в междуречье Волги и Оки. В период XI-XII веков местное мерянское население растворилось в потоке пришлого славянского. Славянская колонизация сопровождалась возникновением городов, а также развитием ремесел и торговли. На страницах летописей упоминание о Суздале появилось в 1024 г., но современные археологические открытия говорят о существовании поселения на этом месте еще в IX столетии, В XI в. это был крупный русский город, в середине XII — столица Ростово-Суздальского княжества, а в XIII — начале XIV в. — Суздальского.
На страницах летописей упоминание о Суздале появилось в 1024 г., но современные археологические открытия говорят о существовании поселения на этом месте еще в IX столетии, В XI в. это был крупный русский город, в середине XII — столица Ростово-Суздальского княжества, а в XIII — начале XIV в. — Суздальского.


 После национализации имения, конный двор не использовался. В 1940 — 1950-е годы здесь размещался гараж, однако постройки не ремонтировались. К 1957 году они пришли в ветхое состояние и были разобраны. Исключение составила юго-восточная башня, являющаяся единственным сохранившимся объемом некогда развитого ансамбля.
После национализации имения, конный двор не использовался. В 1940 — 1950-е годы здесь размещался гараж, однако постройки не ремонтировались. К 1957 году они пришли в ветхое состояние и были разобраны. Исключение составила юго-восточная башня, являющаяся единственным сохранившимся объемом некогда развитого ансамбля.
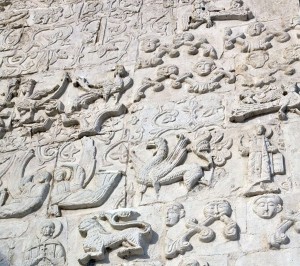








 Старинный Русский город Сергиев Посад находится в 70 км к северо-востоку от Москвы. Историческое ядро современного города — ансамбль зданий знаменитой на всю Россию Троице-Сергиевой лавры, строительство которой было начато в середине XIV в. В то время от набегов татар разорялись города и села, а люди уходили в другие места. Так, переселилась в маленький городок Радонеж (сейчас это село) и семья ростовского боярина (Ростов тогда был больше Москвы). Средний из его трех сыновей — Варфоломей — вошел в историю России под именем Сергий Радонежский (ок. 1321-1391) и стал основателем монастыря и будущего города.
Старинный Русский город Сергиев Посад находится в 70 км к северо-востоку от Москвы. Историческое ядро современного города — ансамбль зданий знаменитой на всю Россию Троице-Сергиевой лавры, строительство которой было начато в середине XIV в. В то время от набегов татар разорялись города и села, а люди уходили в другие места. Так, переселилась в маленький городок Радонеж (сейчас это село) и семья ростовского боярина (Ростов тогда был больше Москвы). Средний из его трех сыновей — Варфоломей — вошел в историю России под именем Сергий Радонежский (ок. 1321-1391) и стал основателем монастыря и будущего города.

 Областной центр Калуга расположен в 190 километрах к юго- западу от Москвы. С древних времен эти земли входили в культурное поле России. Во времена нашествия на Древнюю Русь кочевников вписал свое имя в историю небольшой калужский городок Козельск. В 1238 г. его жители проявили образец отваги, сражаясь с отрядом хана Батыя, в течение семи недель держали они оборону.
Областной центр Калуга расположен в 190 километрах к юго- западу от Москвы. С древних времен эти земли входили в культурное поле России. Во времена нашествия на Древнюю Русь кочевников вписал свое имя в историю небольшой калужский городок Козельск. В 1238 г. его жители проявили образец отваги, сражаясь с отрядом хана Батыя, в течение семи недель держали они оборону. История Луховиц как города началась совсем недавно, в 1957 году. Однако населённый пункт, давший имя городу, существовал на месте нынешних Луховиц несколько веков подряд.
История Луховиц как города началась совсем недавно, в 1957 году. Однако населённый пункт, давший имя городу, существовал на месте нынешних Луховиц несколько веков подряд.










 Звенигород возник в XII в. как город-крепость. Основал его Юрий Долгорукий и назвал по одному из южных Звенигородов, существовавших в Галицкой земле и под Киевом.
Звенигород возник в XII в. как город-крепость. Основал его Юрий Долгорукий и назвал по одному из южных Звенигородов, существовавших в Галицкой земле и под Киевом.
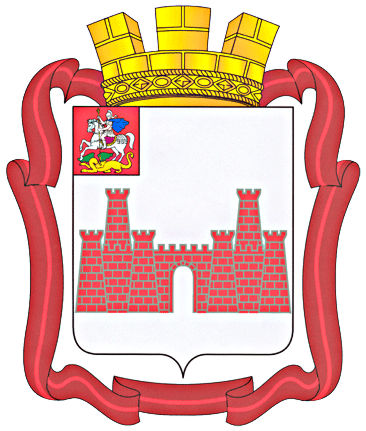 Первое письменное упоминание о Можайске относится к 1231 г. в связи с осадой его новгородцами. Князь Ярослав Всеволодович во главе новгородской дружины ходил на черниговский город Серенек, а затем стоял под Можайском, но взять его не смог.
Первое письменное упоминание о Можайске относится к 1231 г. в связи с осадой его новгородцами. Князь Ярослав Всеволодович во главе новгородской дружины ходил на черниговский город Серенек, а затем стоял под Можайском, но взять его не смог.














